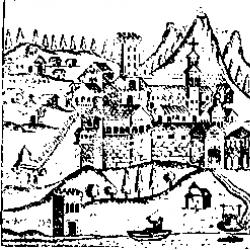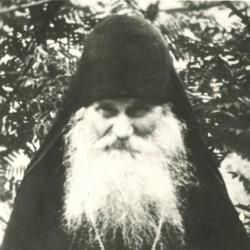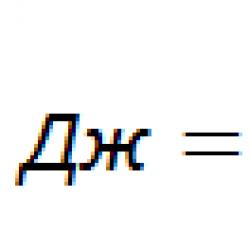Синайская библия. Значение синайский кодекс в православной энциклопедии древо. Действительно существовала договоренность о том, что Библия будет поднесена в дар императору Александру II в обмен на поддержку русского правительства в деле рукоположения и ут
Синайский кодекс
Тишендорф вернулся в Лейпциг в январе 1846 г. Он приехал в Европу не прямо из Синая, а сперва снарядил в Египте еще один караван и после ряда опаснейших приключений, которые вовлекли его даже в племенную междоусобицу, добрался в конце концов до Святой земли. Мы не последуем за ним в его паломничестве к монастырям Палестины и Сирии и в пространном описании его скитаний, доведших его до самого Константинополя. В некоторых местах повторялась та же история с подозрительностью и скрытностью монахов, и точно в таком же жалком состоянии были монастырские библиотеки, в которые ему удавалось попасть только после многих мытарств и нервотрепки. Тем не менее его настойчивость и инстинкт палеографа позволили ему приобрести несколько ценных рукописей, из которых, впрочем, ничто не шло в сравнение с сорока тремя страницами из Синая. Он прибыл в Лейпциг, тяжело нагруженный греческими, сирийскими, коптскими, арабскими и грузинскими документами, которые передал все без исключения в библиотеку Лейпцигского университета в знак признательности правительству за помощь в его исследованиях. Материал был каталогизирован как «Manuscripta Tischendorfiana». Среди них было три греческих палимпсеста. Уникальные синайские фрагменты были помещены отдельно под тем названием, которое их открыватель дал им в честь саксонского курфюрста, - «Кодекс Фридриха Августа». Тишендорф немедленно приступил к подготовке литографического факсимильного издания кодекса, к которому прилагался комментарий.
По возвращении после более чем четырехлетнего отсутствия тридцатилетний ученый, чья репутация палеографа и текстолога-библеиста теперь окончательно упрочилась, был приглашен на должность адъюнкт-профессора Лейпцигского университета. Теперь Тишендорф мог жениться, обзавестись семьей. Он приступил к регулярному чтению лекций в университете и к изданию открытых им текстов. Новое издание греческого Нового Завета вобрало в себя многое из этих свежих материалов и знаменовало собой новую веху в критике Библии. Поглощенный своей работой и семейными делами, Тишендорф, казалось, покончил со своими странствиями. Но в периоды больших университетских каникул он неизменно оказывался в непосредственной близости от старинных библиотек, в частности в Цюрихе и Санкт-Галлене, в Швейцарии, в местах, равно привлекавших и палеографическими ценностями, и красотами природы. Но где бы он ни был, ему не давала покоя мысль о листах, оставленных им в Синае. Тишендорф никому не говорил о них, так как не хотел, чтобы кто-нибудь другой завладел ими. Он во что бы то ни стало должен найти способ приобрести их! Только как заставить монахов Святой Екатерины изменить свое отношение?
Тишендорф вспомнил о Прунер-бее (Ф. Прунер), враче египетского вице-короля, с которым он подружился в Каире. Прунер-бей занимал высокое положение, имел обширные связи, можно было быть уверенным, что он будет действовать осмотрительно. Тишендорф попросил его связаться с синайскими монахами и предложить им приличную сумму за пергамены «Септуагинты». Но Прунер смог только сообщить о постигшей его неудаче. «Со времени вашего отъезда из монастыря, - писал он, - монахи вполне оценили сокровище, которым владеют. Чем больше им предлагаешь, тем крепче они держатся за рукопись». Было ясно, что Тишендорфу надо ехать самому. Даже если ему не удастся выкупить оставшиеся фрагменты, он мог бы скопировать их, а затем издать, чтобы сделать достоянием западной науки. Тишендорф посвятил в свою тайну саксонского министра просвещения, и тот предоставил ему субсидию для организации поездки.
Тишендорф покинул Европу в середине января 1853 г. и прибыл в монастырь Святой Екатерины в начале февраля. Его приняли по-дружески. Кирилл, все еще заведовавший библиотекой, казалось, был рад встрече. Но все расспросы о греческих пергаменах были безрезультатны. Кирилл категорически заявлял, что понятия не имеет о том, что случилось с фрагментами, которые Тишендорф извлек из мусорной корзины и столь настойчиво вверял его попечению. Тишендорф твердо верил в искренность библиотекаря и поэтому пришел к выводу, что рукописью как-то распорядились без ведома Кирилла. Он подозревал, что она скорее всего уплыла в Англию или в Россию. Однако кое-что случайно прояснилось, когда он просматривал в библиотеке один сборник житий святых. Он обнаружил обрывок листа «не более чем в пол-ладони», использовавшийся в качестве закладки. Листок содержал несколько стихов (одиннадцать строк) из 23-й главы Книги Бытия. Поскольку это была начальная часть Библии - Первая книга Моисеева, тем самым подтверждалось, что этот экземпляр греческого Ветхого Завета первоначально был полным.
Но, как вынужден был с грустью заметить Тишендорф, «большая часть уже давно была уничтожена».
Постигшая его неудача не помешала Тишендорфу сделать во время краткого пребывания на Ближнем Востоке несколько ценных находок. В этот раз он привез домой шестнадцать палимпсестов - старых сирийских и арабских пергаменов, а также значительную коллекцию караимских текстов, принадлежавших иудейской секте времен раннего Средневековья. Кроме того, он приобрел много греческих, коптских, иератических и демотических папирусов. К маю он уже снова был в Лейпциге.
Он был готов в любой момент услышать о появлении большей части спасенной им «Септуагинты» в какой-нибудь европейской библиотеке или частной коллекции. Но годы шли, а ничего подобного не происходило. Тишендорф надеялся, что сможет вынудить предполагаемого владельца восьмидесяти шести листов нарушить молчание, когда в 1854 г. он опубликовал отрывки из Исайи и Иеремии, скопированные им в монастыре со страниц, которые монахи отказались ему отдать. Отрывки появились в его собственной серии - «Monumenta sacra in-edita» («Неизданные священные памятники»), - которую он основал специально для опубликования открытых им рукописей и любых других иным способом недоступных текстов. В примечании к отрывку из Ветхого Завета он ясно дал понять, что рукопись, послужившая источником, найдена им, а не кем-то другим. Шло время. Очевидно, его предположение было безосновательным: никто не спешил похвастаться обладанием восемьюдесятью шестью страницами. Как узнал Тишендорф несколькими годами позже, русскому церковному деятелю Порфирию Успенскому, посетившему гору Синай, монахи показывали заветную рукопись, но он в тот момент не сумел оценить ее по достоинству и даже не удосужился выяснить, какие тексты в ней содержатся.
В последующие годы Тишендорф был занят обширными исследованиями в связи с седьмым критическим изданием Нового Завета. Но Восток уже жил в его крови, и «мысль о новых путешествиях и исследованиях», признавался он, никогда не оставляла его; он «отказывался рассматривать свои первые две поездки как подводящие какой-либо итог его миссии». Те, кому довелось побывать на Востоке, отмечал он, уже никогда не могли забыть его. Его надежды вновь ожили, когда один английский ученый (Г. О. Кокс), направленный британским правительством в поездку по Ближнему Востоку с целью приобретения памятников древности, намеренно исключил монастырь Святой Екатерины из своего маршрута, заявив: «Что касается горы Синай, то после пребывания там столь выдающегося палеографа и критика, как д-р Тишендорф, не говоря уже о визитах многих других ученых, вряд ли можно рассчитывать найти там что-нибудь стоящее, чего не заметил бы их наметанный глаз».
Но на этот раз Тишендорф хотел предстать перед хитрыми монахами Синая, обладая прочными позициями. Как Лэйярд и Мариэтт, проводившие как раз в это время буквально революционные археологические раскопки в Месопотамии и Египте, он понял, как много значит, учитывая закоснелость турецких чиновников и невежество местного населения, политическая поддержка, дающая иностранным ученым силу и авторитет для успешного проведения их экскурсов в прошлое. Покровительство прусского правительства могло быть очень полезным. В достигшем уже преклонного возраста Александре фон Гумбольдте, обладавшем значительным влиянием при берлинском дворе, он нашел друга и единомышленника. Однако прусский министр просвещения проявлял значительно меньший энтузиазм. Тогда Тишендорф вновь вернулся к мысли заручиться поддержкой русского царя, который имел несравненно большее влияние в Леванте.
К его значительному политическому авторитету присовокуплялся еще и ореол благодетеля, так как он был главою Русской и защитником интересов Греческой церкви. Разве не царь был преемником бывших византийских императоров и властелином Третьего Рима? Кроме того, синайская монашеская община в течение нескольких столетий пользовалась субсидиями царя. Тишендорф знал, как наилучшим образом использовать эти обстоятельства.
Осенью 1856 г. он вручил русскому послу в Дрездене меморандум для министра народного просвещения Авраама Норова. Расписав, не жалея красок, свои достижения в деле открытия утерянных рукописей, Тишендорф далее заявлял: «Это драгоценное наследие тех веков, когда ученость настолько же процветала в монастырских кельях, насколько сейчас не может найти достойных наследников, по моему мнению, является священным достоянием всех образованных людей. Какую духовную жатву уже собрала Европа с заброшенных темных закоулков восточных монастырей благодаря тому, что важнейшие средневековые пергамены, в особенности греческие, удалось переправить в центры европейской культуры и науки! Но еще много этих документов, больше, чем мы себе представляем, по-прежнему ожидают открытия, пребывая в первоначальных своих хранилищах. В особенности это относится к области греческой литературы и византийской истории…»
А. С. Норов был человеком удивительной эрудиции, он сам совершил несколько путешествий на Восток. Он настолько был захвачен проектом Тишендорфа, что приехал в Лейпциг, чтобы обсудить с ним все планы, и даже выразил желание присоединиться к нему на одном из участков маршрута. Достоинства предложения Тишендорфа произвели впечатление и на Императорскую Академию в Санкт-Петербурге, которую попросили высказать по этому поводу свое мнение. Однако консервативное русское духовенство не было склонно возлагать на немца-протестанта представительство перед их единоверцами в Леванте. К тому же А. С. Норов оставил свой пост. Однако бывший министр сохранил доступ к царской семье и склонил на свою сторону брата царя - Константина. Со временем царица Мария Александровна и вдовствующая императрица также были вовлечены в маленький заговор.
Между тем Тишендорф вступил в переговоры и с саксонским правительством, которое выразило готовность взять на себя расходы, если русские откажутся финансировать экспедицию. Получив определенную независимость, Тишендорф мог теперь действовать более смело. Он отправил в Санкт-Петербург фактически ультиматум с просьбой сообщить ему решение по его петиции - либо то, либо иное. Немедленно Норов и еще один приближенный великого князя Константина телеграфировали, что теперь ему не придется долго ждать, что поддержка императора будет обеспечена в самом ближайшем будущем. Вновь обратились к императрице, которая в тот момент собиралась вместе с царем отправиться поездом в Москву. На другой вечер были отданы распоряжения снабдить Тишендорфа необходимыми средствами (куда входила как стоимость дорожных расходов, так и значительная сумма на приобретения). Все это в золотой русской валюте было выдано Тишендорфу императорским посланником в Дрездене. Деньги были переданы без каких-либо письменных обязательств. От Тишендорфа не потребовали даже расписки. «Таким образом, проект был скреплен императорской щедростью как дело, основанное на полном доверии».
По завершении седьмого издания греческого Нового Завета, на что ушло три года непрерывной работы, Тишендорф вновь пустился в плавание к берегам Египта. На этот раз он не задерживался в Нильской долине, а прямиком проследовал в монастырь на горе Синай. Прием, оказанный ему в монастыре, был совершенно непохож на предыдущие. Теперь он прибыл от имени Его Величества императора России, и с ним обращались с должным почтением и уважением. В его честь был поднят русский флаг. На этот раз он попал в монастырь отнюдь не с помощью подъемного приспособления, а был проведен через расположенную на уровне земли небольшую дверь, которая открывалась лишь в редких случаях - для особо почетных гостей. Настоятель, по-видимому хорошо осведомленный о миссии гостя, произнес по случаю его прибытия краткую речь с пожеланиями успеха в поисках новых подтверждений Божественной истины. Как впоследствии заметил Тишендорф, «его сердечное благопожелание сбылось помимо его ожиданий».
Была ли речь настоятеля приправлена драматической иронией, как казалось Тишендорфу и более поздним немецким авторам, или она отражала искреннее желание монахов исполнить любое пожелание гостя, быть может в надежде на соответствующее вознаграждение со стороны русских - у нас слишком мало данных, чтобы уверенно судить об этом. Что бы там ни происходило за сценой - допуская даже возможность того, что монахи играли с Тишендорфом в кошки-мышки, - видимый ход событий нам совершенно ясен. Тишендорф еще раз просмотрел все монастырские собрания рукописей. Через три дня он убедился, что ранее ничто в них не ускользнуло от его внимания. Оставалось разве что скопировать несколько отрывков. Он решил не спрашивать прямо о судьбе рукописи Библии, слишком хорошо зная, каков будет ответ. Раз ему не удалось обнаружить каких-либо ее следов во всех трех библиотеках, он еще больше укрепился в мысли, что она была увезена из монастыря Святой Екатерины. На четвертый день своего пребывания там он решил в конце недели вернуться в Каир.
В этот день Тишендорф, сопровождаемый монастырским экономом, молодым добродушным афинянином и учеником Кирилла, который называл его своим духовным сыном, предпринял восхождение на близлежащий холм и спустился в расположенную за ним долину. На обратном пути зашел разговор о тишендорфовских изданиях греческого текста Ветхого и Нового Завета, копии которых он подарил монастырю. По возвращении, когда день клонился к закату, эконом пригласил Тишендорфа к себе в келью, чтобы немного подкрепиться. Едва они вошли и начали потягивать финиковый ликер, изготавливаемый в монастыре, эконом вернулся к их прежнему разговору. «А я тоже читал „Септуагинту“ - греческую Библию, переведенную Семьюдесятью». Сказав это, он пересек комнату, взял с полки громоздкий предмет, завернутый в красную ткань, и положил его перед гостем. Тишендорф развернул ткань - и перед ним предстали те же самые унциальные буквы IV в., те же листы с четырьмя колонками, как и в Кодексе Фридриха Августа. И здесь были не только те самые листы, которые лет пятнадцать назад Тишендорф выудил из корзины, а много, много больше.
Помимо восьмидесяти шести страниц Ветхого Завета, которые он видел ранее, здесь было еще сто двенадцать листов, а также величайшее сокровище, главная цель всех его устремлений - по всей видимости, полный Новый Завет. Столь полного текста не давали ни Александрийский, ни Ватиканский кодекс. Он пересчитал страницы: их было триста сорок шесть. Он просмотрел текст, чтобы убедиться, все ли Евангелия, все ли Послания на месте. То, что он сейчас исследовал, было уникальным текстом Нового Завета, сохранившимся во всей полноте с эпохи, столь близкой действительному времени его создания. Мог ли он поверить своим глазам, когда в конце текста Нового Завета заметил Послание Варнавы? Это было сочинение апостольского ученика, которое впоследствии, при составлении канона, после долгих колебаний исключили из текста Нового Завета. Большая часть его считалась утерянной, и до нас дошли только отдельные фрагменты в скверных латинских переводах. Тишендорф с трудом сдерживал свою радость. Но на этот раз он решил действовать осторожно, чтобы не возбудить подозрения братии и снова не упустить свою добычу. Между тем в келье эконома собрались монахи, и среди них Кирилл. Они могли засвидетельствовать полное бесстрастие, с которым немецкий профессор просматривал объемистый манускрипт. Не зная досконально содержания этих листов пергамена, они просто неспособны были, решил Тишендорф, оценить по достоинству их значение. Он небрежно спросил, можно ли ему взять листы в свою комнату для более детального изучения, и разрешение было дано с легкостью. В более позднем изложении этой истории он попытался отразить чувства, охватившие его, когда он наконец остался один: «Здесь, наедине с самим собой, я мог дать волю своему восторгу. Я знал, что держу в руках самое драгоценное из существующих библейских сокровищ - документ, чей возраст и значение превосходили возраст и значение всех рукописей, с которыми мне доводилось знакомиться за двадцать с лишним лет изучения своего предмета…»
Он начал составлять полную опись содержания этих трехсот сорока шести страниц. Помимо двадцати двух книг из Ветхого Завета, в большинстве своем полных, преимущественно пророческих и поэтических по содержанию, здесь были также и части библейских апокрифов. Новый Завет был вообще без пробелов. Когда он перелистал его и прочел Послание Варнавы, в его мозгу мелькнула мысль: а не может ли здесь оказаться еще один бесследно исчезнувший текст, так называемый «Пастырь» Гермы? Он почти устыдился ненасытности своих надежд перед лицом уже столь щедро дарованной благодати. Затем взгляд его упал на лежащий перед ним довольно выцветший лист. Заголовок гласил: «Пастырь».
Было восемь часов вечера. О том, чтобы лечь спать, не могло быть и речи. Хотя лампа давала только тусклый свет и было довольно прохладно, Тишендорф засел за переписку Послания Варнавы и спасенной части «Пастыря» Гермы.
Рано утром следующего дня он послал за экономом. Дав понять, что располагает изрядным количеством золота, он предложил уступить ему рукопись в обмен на щедрое денежное пожертвование, причем двойное: как монастырю, так и лично эконому. Последний, как вынужден был признать Тишендорф, «поступил благоразумно, отвергнув его предложение». Тогда Тишендорф объяснил, что он просто хотел скопировать рукопись. Против этого эконом не возражал. Но как это было сделать? Манускрипт содержал около ста двадцати тысяч строк, написанных трудным для чтения александрийским письмом. Работа заняла бы по крайней мере год. Тишендорф не был готов к тому, чтобы задержаться в монастыре Святой Екатерины на такой долгий срок. Может быть, монахи позволят взять кодекс в Каир, где ему окажут помощь? Братия согласилась на это практически единодушно, если не считать старца Виталия, хранителя церковной утвари, ведавшего библиотекой, совмещенной со складом, откуда рукопись, по всей вероятности, и была первоначально извлечена. Была и еще одна трудность: настоятель Дионисий - а за ним было последнее слово - незадолго до этого уехал в Каир, чтобы вместе с настоятелями других синайских монастырей избрать нового архиепископа, который должен был сменить недавно умершего столетнего архиепископа Константина.
Тишендорф решил последовать за настоятелем в Каир, взяв с собой письма от Кирилла и эконома, в которых они горячо поддерживали его план. В Каире он поспешил в Синайский монастырь, где собрался синод настоятелей, и к вечеру разрешение на доставку манускрипта в Каир было получено. За рукописью в Синай был отправлен бедуинский шейх. Через десять дней манускрипт с «дромадерским экспрессом», скорости которому значительно прибавили щедрые посулы Тишендорфа, прибыл в Каир. Договорились, что Тишендорф будет брать для копирования каждый раз по одному «кватерниону», то есть по восемь страниц. Ему предстояла необъятная работа, которую, кстати, дальнейшее развитие событий лишило всякого смысла. Два месяца проработал Тишендорф в своей комнатке в «Отель де пирамид», не дающей никакого спасения от нескончаемого шума и гама каирской улицы.
Чтобы ускорить дело, он нанял двух живущих здесь немцев, получивших некоторое классическое образование, - врача и аптекаря. Под его наблюдением они приступили к работе. Но с каждым шагом трудность стоящей перед ними задачи становилась все очевиднее. Помимо того что многие места в рукописи совершенно выцвели, в ней была еще тьма поправок - около четырнадцати тысяч, - внесенных целым рядом «редакторов» уже после того, как текст был полностью записан. Некоторые страницы содержали более сотни таких исправлений. К тому же сам текст был написан несколькими почерками, и каждому были присущи своя манера, свои особенности. Над рукописью поработало по меньшей мере шесть «редакторов», и большинство из них, по-видимому, сделали это не менее тысячи лет назад.
Когда была скопирована почти половина тома, Тишендорф, к своему ужасу, узнал, что из-за неосторожной фразы, сказанной им представителю германского консульства, тайна стала известной только что прибывшему английскому ученому. Более того, англичанин получил доступ в монастырь, где хранился кодекс, и, не тратя времени даром, стал предлагать монахам деньги. Тишендорф, прибывший в монастырь вскоре после англичанина, на какое-то время совершенно потерял самообладание. Однако настоятель успокоил его, сказав: «Мы скорее преподнесем рукопись императору Александру в качестве подарка, чем продадим ее за английское золото».
Столь благородная идея, разумеется, тотчас нашла отклик в душе хитрого Тишендорфа, который, как он сам сознавался, «был в восторге от такого проявления веры и рассчитывал воспользоваться им в будущем». С особой настойчивостью принимается он теперь убеждать синайских монахов в величии этого шага, который отразил бы их преклонение перед царем как заступником православной веры. Раздражение, которое он испытал из-за появления соперника-англичанина и из-за разглашения его тайны, побудило его публично объявить о своих новых открытиях. Как победоносный генерал, он составил коммюнике о своем триумфе, отослал его министру народного просвещения Саксонии, а в середине апреля 1859 г. опубликовал в научном приложении к «Лейгашгер Цайтунг».
Мысль о том, что манускрипт следует преподнести царю, очевидно, показалась синайской братии весьма соблазнительной. Но тут возникли неожиданные осложнения. На преподнесение столь ценного подарка, как библейский кодекс, требовалось разрешение каирского архиепископа, однако митрополит Греческой православной церкви в Иерусалиме был настроен против вновь избранного архиепископа и отказывался посвящать его в сан. Вдобавок к этому избрание должно было быть утверждено турецким правительством и египетским вице-королем. Обе инстанции затягивали решение дела. Следовательно, назначение архиепископа пока не могло рассматриваться как вполне законное, в связи с чем он отказывался взять на себя ответственность за решение судьбы кодекса. Однако он намекнул, что в случае, если его высокие полномочия будут подтверждены, он не будет возражать против передачи кодекса царю.
Тишендорф сумел ловко вмешаться в конфликт по поводу избрания нового архиепископа. Он выступал уже не как простой проситель. На этот раз он дал понять монахам, что, будучи посланником царя, он постарается употребить все свое влияние, чтобы склонить дело в их пользу. Монахи были весьма обеспокоены затянувшимся епископальным междуцарствием, которое внесло в их общину апатию и беспорядок. Когда Тишендорф услышал о прибытии в Иерусалим великого князя Константина, он прервал работу и нанял судно, которое доставило его и еще троих человек в Яффу. С этого момента он стал постоянным компаньоном брата царя во время его пребывания в Святой земле. Позже он отправился в Смирну и на Патмос и по дороге туда приобрел несколько ценных рукописей, которые отправил в качестве подарка царю Александру.
Вернувшись в Каир, Тишендорф узнал, что избрание нового архиепископа так и не было подтверждено из-за упрямого нежелания иерусалимского митрополита. В конце концов все еще не вступивший в должность архиепископ сам пришел просить Тишендорфа, авторитет которого значительно возрос благодаря его отношениям с великим князем, использовать все его возможности в защиту интересов общины. Тишендорф с радостью согласился выполнить возлагаемую на него миссию, учитывая, как он без обиняков отметил, «тесную связь между их и моими собственными интересами». Впрочем, во время пребывания в Константинополе его интересы сразу вышли на первый план.
В лице русского посла в Высокой Порте князя Лобанова Тишендорф нашел преданного союзника, который радушно приютил его в своем загородном доме на берегу Босфора. И здесь Тишендорф стал проявлять все больше беспокойства по поводу своих дел: «Ожидать месяц за месяцем конца монастырской свары - это никоим образом меня не устраивало». И он нашел решение. Он составил искусный документ и убедил русского посла подписать его. В этом документе русское правительство предлагало, учитывая тот факт, что формальное облечение властью архиепископа все еще ожидало подтверждения, отправить библейский кодекс в Санкт-Петербург во временное пользование. Он будет считаться собственностью монастыря вплоть до того момента, когда его официально преподнесут царю. Если в силу каких-либо непредвиденных обстоятельств акт дарения не состоится, манускрипт, безусловно, будет возвращен монастырю. С таким документом на руках Тишендорф вновь отправился морем в Египет. По его возвращении монахи горячо благодарили его за те усилия, которые он предпринял, чтобы решить дело в их пользу, и подписали документ, разрешающий ему забрать кодекс во временное пользование в Санкт-Петербург, «чтобы скопировать там насколько возможно точно».
Наконец он получил возможность вернуться в Европу со своим драгоценным грузом - «богатой коллекцией древних греческих, сирийских, коптских, арабских и других манускриптов, среди которых, как алмаз в короне, сверкала „Синайская Библия“». По пути Тишендорф, который обожал монархов любой национальности, выкроил время, чтобы продемонстрировать свои трофеи императору Францу Иосифу в Вене, а несколькими днями позже и своему собственному повелителю, саксонскому королю Иоганну. Затем он продолжил свой путь и прибыл в Царское Село, царскую резиденцию близ Санкт-Петербурга, где преподнес рукопись Их Величествам. Тишендорф использовал предоставившуюся возможность для того, чтобы внушить императору мысль о необходимости «издания этой Библии, которое было бы достойно как самой книги, так и императора и явилось бы одним из величайших предприятий в области критики и исследования Библии». Кто именно должен стать во главе предприятия, подразумевалось само собой. Тишендорф получил приглашение остаться в Санкт-Петербурге для выполнения этой работы, но он отклонил приглашение, мотивируя отказ личными обстоятельствами, а также тем, что в Лейпциге он будет располагать гораздо большими полиграфическими возможностями.
Подготовка факсимильного издания кодекса в четырех томах заняла три года. Эта работа оказалась одной из труднейших задач, когда-либо поставленных перед собой Тишендорфом, и, по-видимому, в конце концов она подорвала его здоровье. Надо было, например, изготовить адекватные греческие литеры для различных стилей написания унциальных букв, а также для значительно более мелкого шрифта исправлений, сделанных в тексте, которые следовало включить в факсимильное издание. Тишендорф собственноручно измерял расстояние между каждыми двумя буквами, чтобы достичь максимально возможного подобия. Поскольку текст рукописи был нечетким и частично выцветшим, фотокопирование при тогдашнем уровне фототехники было неосуществимым. (Впоследствии, в начале XX в., кодекс был сфотографирован гарвардским профессором Кэрсопом Лейком и его супругой, а затем опубликован издательством Оксфордского университета - Новый Завет в 1911 г. и Ветхий Завет в 1922 г.) Кроме того, следовало разобраться в чтении всех содержащихся в тексте исправлений и включить их в свою копию. Затем нужно было вычитывать корректуры. Когда вся эта работа была проделана, целый вагон тяжелых томов - тридцать один ящик с тысячью двумястами тридцатью двумя фолиантами общим весом около 60 тонн - был отправлен в Санкт-Петербург, где книге предстояло выйти в свет в ознаменование тысячелетнего юбилея русской монархии осенью 1862 г. Издание было озаглавлено следующим образом:
SINAITICUS PETROPOLITANUS,
Спасенный из мрака под покровительством Его Императорского Величества императора Александра II. доставленный в Европу и изданный к вящему благу и славе христианского учения трудами К. Т.
В посвящении своему блистательному патрону Тишендорф подчеркивал уникальность манускрипта, большое значение которого, «с надеждой провозглашаемое его открывателем с самого начала, было блестяще подтверждено… Нет другого подобного документа, который мог бы представить более веские доказательства своего древнего благородного происхождения. Преподобные Отцы Церкви, жившие в древнейшую пору христианства, свидетельствуют о том, что в их эпоху Церковь черпала слово Божие из документов, весьма сходных с этим».
С этого момента награды и почести посыпались на Тишендорфа дождем. Император России даровал ему и его потомкам дворянство. Папа, получив экземпляр факсимильного издания, лично выразил ему свои поздравления и восхищение.
Однако великий триумф Тишендорфа был омрачен злобными нападками на его честность и на ценность его находки. В определенном смысле приключенческий роман продолжался. Правда, продолжение его носило скорее характер плутовского романа - с появлением на сцене мошенника, изобретательного грека Симонида. Новый акт драмы заключался в схватке между величайшим палеографом века и человеком, который мог бы с полным правом претендовать на не менее высокий титул в своей менее похвальной профессии изготовителя поддельных рукописей. По иронии судьбы и ученый, и плут носили византийское имя Константин.
Страница из тишендорфовского печатного факсимильного издания Синайского кодекса (Евангелие от Марка 1,1–4)
Симонид родился, вероятно, в 1824 или 1819 г. (позже он называл 1815 г.) на небольшом острове Симэ в Эгейском море. В раннем возрасте оставшись сиротой, он был воспитан дядей - настоятелем одного из монастырей на горе Афон. Здесь Симонид овладел искусством каллиграфии и имел возможность копировать различные древние тексты. Он, безусловно, приобрел удивительные познания в области использования разнообразных материалов для письма в древние времена, различных стилей письма и особенностей языка. После смерти своего наставника Симонид появился в Афинах, где продал греческому правительству несколько пергаменов, которые он, очевидно, прихватил в качестве сувениров в гостеприимном монастыре. Он обнаружил, что спрос на рукописи велик, а запасы его иссякают, и решил заняться их пополнением. Вскоре он произвел сенсацию, предъявив рукописи, происходящие якобы из никому дотоле не ведомого центра учености, расположенного не где-нибудь, а на безвестном островке Симэ. По ним можно было составить впечатление, что предки Симонида в XIII в. предвосхитили все технические достижения середины XIX в., включая пароход. Другой манускрипт представлял его предполагаемого автора, греческого монаха из позднего Средневековья, изобретателем фотографии. Эти документы, явно взывавшие к эллинскому патриотизму и ловко преподнесенные их открывателем греческому государственному деятелю Мустоксидису, почти с самого начала вызвали подозрения. Мустоксидис, будучи сам ученым, заявил, что это подделка. Однако комиссия медлила вынести окончательное решение. Каким образом, вопрошали ученые, столь молодой человек, как Симонид, имеющий такие пробелы в образовании, мог создать подобные искусные подделки?

Вид горы Афон на северо-востоке Греции - средоточия православных монастырей, издавна славившихся своими рукописными собраниями
Между тем Симонид благоразумно проследовал в Константинополь. Здесь он получил право на ведение археологических раскопок в районе старого ипподрома. И через необыкновенно короткое время он появился вновь с бутылкой, набитой рукописными страницами. К несчастью для него, кто-то видел, как он во время обеденного перерыва сам же закапывал ее в землю. Симониду пришлось снова пуститься в странствия. Он неожиданно возникал в разных местах Леванта, от Александрии до Одессы. На некоторое время, имея на то веские причины, он вернулся на гору Афон, а затем решил облагодетельствовать плодами своего замечательного таланта Англию и Германию. Почему он избрал эти страны? Потому ли, что считал англичан и немцев наиболее легковерными по части древностей, или они были щедрее других, когда дело доходило до уплаты больших сумм во имя удовлетворения страсти к старым пергаменам? Во всяком случае, эти две страны были наиболее активными центрами палеографических исследований. Они являлись богатейшими рынками сбыта рукописей. То, что среди ученых в этих странах были весьма проницательные люди, Симониду было, по-видимому, тоже известно. Но он был готов рискнуть.
В Германии он предложил палимпсест давно утерянного «Урания» - эллинистической истории египетских царей. Старший коллега Тишендорфа, лейпцигский профессор Вильгельм Диндорф, заявил, что манускрипт подлинный. Одна берлинская ученая коллегия согласилась с его мнением и рекомендовала приобрести рукопись. Единственным, кто отнесся к этому скептически, был Александр Гумбольдт. В последнюю минуту Диндорф показал несколько страниц Тишендорфу. Он тут же распознал подделку и телеграфировал свое мнение в Берлин. Угроза компрометирующего разоблачения и скандала позволила Симониду сохранить свою свободу, но он был глубоко уязвлен вмешательством Тишендорфа. Открытие Синайского кодекса предоставило ему возможность реванша. Но теперь роли переменились. Симонид уже не отказывался, что прежде изготовлял поддельные рукописи. Наоборот, в сентябре 1862 г. он неожиданно признался в том, что изготовил целиком весь кодекс, который Тишендорф привез с Синая. Симонид сочинил запутанную историю, которая должна была объяснить, зачем он изготовил рукопись, не собираясь якобы вводить кого-либо в заблуждение относительно ее возраста.
Потрясающее разоблачение вызвало замешательство, и кое-где, особенно в Англии, ему поверили. Пресса восприняла скандал с восторгом. «Кто же обманщик и кто обманутый?» - гласил заголовок газетной статьи, разоблачающей немецкого ученого. Возможно ли, вопрошал автор статьи, чтобы в Синайском монастыре, где высокообразованным англичанам не удалось обнаружить чего-нибудь стоящего, Тишендорф смог извлечь столь ценные пергамены из груды хлама? И кто он, в конце концов, такой, этот Тишендорф? Кто он в сравнении с его выдающимися соотечественниками Диндорфом и Лепсиусом, которые оба были позорно обмануты Симонидом? Не выглядит ли дело таким образом, что Тишендорф не устоял перед соблазном увидеть свое имя прославляемым по всей Европе, чего бы это ни стоило?
Некоторые из этих мнений были подхвачены врагами Тишендорфа в Германии. Ему же все дело казалось дурной шуткой. То, что Симонид мог написать этот кодекс, выглядело столь же правдоподобно, по словам Тишендорфа, как если бы кто-нибудь заявил: «Это я построил Лондон» или «Я поместил гору Синай на то место в пустыне, где она сейчас находится».
Однако окончательно опровергли выдумку Симонида внутренние свидетельства самого текста. Синайский манускрипт был написан по меньшей мере тремя различными почерками, не считая множества почерков, наличествующих в поправках, которыми были представлены различные стили письма, последовательно датируемые веками с IV по XII. Ни на горе Афон, ни где-либо еще не существовало такого унциального документа или подборки документов, откуда это можно было бы скопировать. Другой греческой версии фрагментов Послания Варнавы вообще не было. Сама рукопись имела пометы, свидетельствующие о том, что она в VII в. находилась в Кесарии (Палестина). Кроме того, как можно было иначе объяснить тот факт, что до нас дошла только половина рукописи, тогда как фрагменты ее появлялись в переплетах, сделанных несколькими веками раньше? Как было отмечено впоследствии в посвященной Синайскому кодексу публикации Британского музея, «невероятность этой истории настолько очевидна, что не нуждается в доказательствах».
Симонид никогда не пытался написать хотя бы одну страницу таким унциальным библейским письмом, каким был написан кодекс. Кроме того, его уличали и во всевозможных противоречиях. Например, он утверждал, что видел весь манускрипт целиком в Синае в 1852 г., забыв о том факте, что Тишендорф заполучил сорок три страницы восемью годами раньше.
Как же обстояло дело с предполагаемым подношением кодекса царю? Архиепископский кризис в синайской общине затянулся на годы и в конце концов вылился во внутреннюю междоусобицу, которая окончилась лишь смещением в 1867 г. выбранного кандидата и единогласным избранием его преемника. Только в 1869 г. передача рукописи русскому монарху была оформлена официально. Предложенные царским правительством 9000 рублей были приняты синайскими монахами, которые поспешили скрепить «дар» подписанным по всей форме документом. Рукопись наконец была водворена в Публичную библиотеку Санкт-Петербурга. С новым архиепископом Тишендорф поддерживал дружескую переписку. 15 июля 1869 г. прелат писал ему: «Как вы знаете, этот прославленный манускрипт с текстом Библии теперь уже преподнесен достойнейшему императору и самодержцу всея Руси в знак нашей и всех синайских монастырей вечной благодарности». Впоследствии, однако, у новых поколений монахов вошло в привычку с горечью говорить об этой сделке Тишендорфа, и почти каждый, кто с той поры побывал в монастыре Святой Екатерины, возвращался домой с рассказами, выставлявшими Тишендорфа в неблагоприятном свете.
Тишендорф вернулся в Лейпциг в январе 1846 г. Он приехал в Европу не прямо из Синая, а сперва снарядил в Египте еще один караван и после ряда опаснейших приключений, которые вовлекли его даже в племенную междоусобицу, добрался в конце концов до Святой земли. Мы не последуем за ним в его паломничестве к монастырям Палестины и Сирии и в пространном описании его скитаний, доведших его до самого Константинополя. В некоторых местах повторялась та же история с подозрительностью и скрытностью монахов, и точно в таком же жалком состоянии были монастырские библиотеки, в которые ему удавалось попасть только после многих мытарств и нервотрепки. Тем не менее его настойчивость и инстинкт палеографа позволили ему приобрести несколько ценных рукописей, из которых, впрочем, ничто не шло в сравнение с сорока тремя страницами из Синая. Он прибыл в Лейпциг, тяжело нагруженный греческими, сирийскими, коптскими, арабскими и грузинскими документами, которые передал все без исключения в библиотеку Лейпцигского университета в знак признательности правительству за помощь в его исследованиях. Материал был каталогизирован как «Manuscripta Tischendorfiana». Среди них было три греческих палимпсеста. Уникальные синайские фрагменты были помещены отдельно под тем названием, которое их открыватель дал им в честь саксонского курфюрста, - «Кодекс Фридриха Августа». Тишендорф немедленно приступил к подготовке литографического факсимильного издания кодекса, к которому прилагался комментарий.
По возвращении после более чем четырехлетнего отсутствия тридцатилетний ученый, чья репутация палеографа и текстолога-библеиста теперь окончательно упрочилась, был приглашен на должность адъюнкт-профессора Лейпцигского университета. Теперь Тишендорф мог жениться, обзавестись семьей. Он приступил к регулярному чтению лекций в университете и к изданию открытых им текстов. Новое издание греческого Нового Завета вобрало в себя многое из этих свежих материалов и знаменовало собой новую веху в критике Библии. Поглощенный своей работой и семейными делами, Тишендорф, казалось, покончил со своими странствиями. Но в периоды больших университетских каникул он неизменно оказывался в непосредственной близости от старинных библиотек, в частности в Цюрихе и Санкт-Галлене, в Швейцарии, в местах, равно привлекавших и палеографическими ценностями, и красотами природы. Но где бы он ни был, ему не давала покоя мысль о листах, оставленных им в Синае. Тишендорф никому не говорил о них, так как не хотел, чтобы кто-нибудь другой завладел ими. Он во что бы то ни стало должен найти способ приобрести их! Только как заставить монахов Святой Екатерины изменить свое отношение?
Тишендорф вспомнил о Прунер-бее (Ф. Прунер), враче египетского вице-короля, с которым он подружился в Каире. Прунер-бей занимал высокое положение, имел обширные связи, можно было быть уверенным, что он будет действовать осмотрительно. Тишендорф попросил его связаться с синайскими монахами и предложить им приличную сумму за пергамены «Септуагинты». Но Прунер смог только сообщить о постигшей его неудаче. «Со времени вашего отъезда из монастыря, - писал он, - монахи вполне оценили сокровище, которым владеют. Чем больше им предлагаешь, тем крепче они держатся за рукопись». Было ясно, что Тишендорфу надо ехать самому. Даже если ему не удастся выкупить оставшиеся фрагменты, он мог бы скопировать их, а затем издать, чтобы сделать достоянием западной науки. Тишендорф посвятил в свою тайну саксонского министра просвещения, и тот предоставил ему субсидию для организации поездки.
Тишендорф покинул Европу в середине января 1853 г. и прибыл в монастырь Святой Екатерины в начале февраля. Его приняли по-дружески. Кирилл, все еще заведовавший библиотекой, казалось, был рад встрече. Но все расспросы о греческих пергаменах были безрезультатны. Кирилл категорически заявлял, что понятия не имеет о том, что случилось с фрагментами, которые Тишендорф извлек из мусорной корзины и столь настойчиво вверял его попечению. Тишендорф твердо верил в искренность библиотекаря и поэтому пришел к выводу, что рукописью как-то распорядились без ведома Кирилла. Он подозревал, что она скорее всего уплыла в Англию или в Россию. Однако кое-что случайно прояснилось, когда он просматривал в библиотеке один сборник житий святых. Он обнаружил обрывок листа «не более чем в пол-ладони», использовавшийся в качестве закладки. Листок содержал несколько стихов (одиннадцать строк) из 23-й главы Книги Бытия. Поскольку это была начальная часть Библии - Первая книга Моисеева, тем самым подтверждалось, что этот экземпляр греческого Ветхого Завета первоначально был полным.
Но, как вынужден был с грустью заметить Тишендорф, «большая часть уже давно была уничтожена».
Постигшая его неудача не помешала Тишендорфу сделать во время краткого пребывания на Ближнем Востоке несколько ценных находок. В этот раз он привез домой шестнадцать палимпсестов - старых сирийских и арабских пергаменов, а также значительную коллекцию караимских текстов, принадлежавших иудейской секте времен раннего Средневековья. Кроме того, он приобрел много греческих, коптских, иератических и демотических папирусов. К маю он уже снова был в Лейпциге.
Он был готов в любой момент услышать о появлении большей части спасенной им «Септуагинты» в какой-нибудь европейской библиотеке или частной коллекции. Но годы шли, а ничего подобного не происходило. Тишендорф надеялся, что сможет вынудить предполагаемого владельца восьмидесяти шести листов нарушить молчание, когда в 1854 г. он опубликовал отрывки из Исайи и Иеремии, скопированные им в монастыре со страниц, которые монахи отказались ему отдать. Отрывки появились в его собственной серии - «Monumenta sacra in-edita» («Неизданные священные памятники»), - которую он основал специально для опубликования открытых им рукописей и любых других иным способом недоступных текстов. В примечании к отрывку из Ветхого Завета он ясно дал понять, что рукопись, послужившая источником, найдена им, а не кем-то другим. Шло время. Очевидно, его предположение было безосновательным: никто не спешил похвастаться обладанием восемьюдесятью шестью страницами. Как узнал Тишендорф несколькими годами позже, русскому церковному деятелю Порфирию Успенскому, посетившему гору Синай, монахи показывали заветную рукопись, но он в тот момент не сумел оценить ее по достоинству и даже не удосужился выяснить, какие тексты в ней содержатся.
В последующие годы Тишендорф был занят обширными исследованиями в связи с седьмым критическим изданием Нового Завета. Но Восток уже жил в его крови, и «мысль о новых путешествиях и исследованиях», признавался он, никогда не оставляла его; он «отказывался рассматривать свои первые две поездки как подводящие какой-либо итог его миссии». Те, кому довелось побывать на Востоке, отмечал он, уже никогда не могли забыть его. Его надежды вновь ожили, когда один английский ученый (Г. О. Кокс), направленный британским правительством в поездку по Ближнему Востоку с целью приобретения памятников древности, намеренно исключил монастырь Святой Екатерины из своего маршрута, заявив: «Что касается горы Синай, то после пребывания там столь выдающегося палеографа и критика, как д-р Тишендорф, не говоря уже о визитах многих других ученых, вряд ли можно рассчитывать найти там что-нибудь стоящее, чего не заметил бы их наметанный глаз».
Но на этот раз Тишендорф хотел предстать перед хитрыми монахами Синая, обладая прочными позициями. Как Лэйярд и Мариэтт, проводившие как раз в это время буквально революционные археологические раскопки в Месопотамии и Египте, он понял, как много значит, учитывая закоснелость турецких чиновников и невежество местного населения, политическая поддержка, дающая иностранным ученым силу и авторитет для успешного проведения их экскурсов в прошлое. Покровительство прусского правительства могло быть очень полезным. В достигшем уже преклонного возраста Александре фон Гумбольдте, обладавшем значительным влиянием при берлинском дворе, он нашел друга и единомышленника. Однако прусский министр просвещения проявлял значительно меньший энтузиазм. Тогда Тишендорф вновь вернулся к мысли заручиться поддержкой русского царя, который имел несравненно большее влияние в Леванте.
К его значительному политическому авторитету присовокуплялся еще и ореол благодетеля, так как он был главою Русской и защитником интересов Греческой церкви. Разве не царь был преемником бывших византийских императоров и властелином Третьего Рима? Кроме того, синайская монашеская община в течение нескольких столетий пользовалась субсидиями царя. Тишендорф знал, как наилучшим образом использовать эти обстоятельства.
Осенью 1856 г. он вручил русскому послу в Дрездене меморандум для министра народного просвещения Авраама Норова. Расписав, не жалея красок, свои достижения в деле открытия утерянных рукописей, Тишендорф далее заявлял: «Это драгоценное наследие тех веков, когда ученость настолько же процветала в монастырских кельях, насколько сейчас не может найти достойных наследников, по моему мнению, является священным достоянием всех образованных людей. Какую духовную жатву уже собрала Европа с заброшенных темных закоулков восточных монастырей благодаря тому, что важнейшие средневековые пергамены, в особенности греческие, удалось переправить в центры европейской культуры и науки! Но еще много этих документов, больше, чем мы себе представляем, по-прежнему ожидают открытия, пребывая в первоначальных своих хранилищах. В особенности это относится к области греческой литературы и византийской истории…»
А. С. Норов был человеком удивительной эрудиции, он сам совершил несколько путешествий на Восток. Он настолько был захвачен проектом Тишендорфа, что приехал в Лейпциг, чтобы обсудить с ним все планы, и даже выразил желание присоединиться к нему на одном из участков маршрута. Достоинства предложения Тишендорфа произвели впечатление и на Императорскую Академию в Санкт-Петербурге, которую попросили высказать по этому поводу свое мнение. Однако консервативное русское духовенство не было склонно возлагать на немца-протестанта представительство перед их единоверцами в Леванте. К тому же А. С. Норов оставил свой пост. Однако бывший министр сохранил доступ к царской семье и склонил на свою сторону брата царя - Константина. Со временем царица Мария Александровна и вдовствующая императрица также были вовлечены в маленький заговор.
Между тем Тишендорф вступил в переговоры и с саксонским правительством, которое выразило готовность взять на себя расходы, если русские откажутся финансировать экспедицию. Получив определенную независимость, Тишендорф мог теперь действовать более смело. Он отправил в Санкт-Петербург фактически ультиматум с просьбой сообщить ему решение по его петиции - либо то, либо иное. Немедленно Норов и еще один приближенный великого князя Константина телеграфировали, что теперь ему не придется долго ждать, что поддержка императора будет обеспечена в самом ближайшем будущем. Вновь обратились к императрице, которая в тот момент собиралась вместе с царем отправиться поездом в Москву. На другой вечер были отданы распоряжения снабдить Тишендорфа необходимыми средствами (куда входила как стоимость дорожных расходов, так и значительная сумма на приобретения). Все это в золотой русской валюте было выдано Тишендорфу императорским посланником в Дрездене. Деньги были переданы без каких-либо письменных обязательств. От Тишендорфа не потребовали даже расписки. «Таким образом, проект был скреплен императорской щедростью как дело, основанное на полном доверии».
По завершении седьмого издания греческого Нового Завета, на что ушло три года непрерывной работы, Тишендорф вновь пустился в плавание к берегам Египта. На этот раз он не задерживался в Нильской долине, а прямиком проследовал в монастырь на горе Синай. Прием, оказанный ему в монастыре, был совершенно непохож на предыдущие. Теперь он прибыл от имени Его Величества императора России, и с ним обращались с должным почтением и уважением. В его честь был поднят русский флаг. На этот раз он попал в монастырь отнюдь не с помощью подъемного приспособления, а был проведен через расположенную на уровне земли небольшую дверь, которая открывалась лишь в редких случаях - для особо почетных гостей. Настоятель, по-видимому хорошо осведомленный о миссии гостя, произнес по случаю его прибытия краткую речь с пожеланиями успеха в поисках новых подтверждений Божественной истины. Как впоследствии заметил Тишендорф, «его сердечное благопожелание сбылось помимо его ожиданий».
Была ли речь настоятеля приправлена драматической иронией, как казалось Тишендорфу и более поздним немецким авторам, или она отражала искреннее желание монахов исполнить любое пожелание гостя, быть может в надежде на соответствующее вознаграждение со стороны русских - у нас слишком мало данных, чтобы уверенно судить об этом. Что бы там ни происходило за сценой - допуская даже возможность того, что монахи играли с Тишендорфом в кошки-мышки, - видимый ход событий нам совершенно ясен. Тишендорф еще раз просмотрел все монастырские собрания рукописей. Через три дня он убедился, что ранее ничто в них не ускользнуло от его внимания. Оставалось разве что скопировать несколько отрывков. Он решил не спрашивать прямо о судьбе рукописи Библии, слишком хорошо зная, каков будет ответ. Раз ему не удалось обнаружить каких-либо ее следов во всех трех библиотеках, он еще больше укрепился в мысли, что она была увезена из монастыря Святой Екатерины. На четвертый день своего пребывания там он решил в конце недели вернуться в Каир.
В этот день Тишендорф, сопровождаемый монастырским экономом, молодым добродушным афинянином и учеником Кирилла, который называл его своим духовным сыном, предпринял восхождение на близлежащий холм и спустился в расположенную за ним долину. На обратном пути зашел разговор о тишендорфовских изданиях греческого текста Ветхого и Нового Завета, копии которых он подарил монастырю. По возвращении, когда день клонился к закату, эконом пригласил Тишендорфа к себе в келью, чтобы немного подкрепиться. Едва они вошли и начали потягивать финиковый ликер, изготавливаемый в монастыре, эконом вернулся к их прежнему разговору. «А я тоже читал „Септуагинту“ - греческую Библию, переведенную Семьюдесятью». Сказав это, он пересек комнату, взял с полки громоздкий предмет, завернутый в красную ткань, и положил его перед гостем. Тишендорф развернул ткань - и перед ним предстали те же самые унциальные буквы IV в., те же листы с четырьмя колонками, как и в Кодексе Фридриха Августа. И здесь были не только те самые листы, которые лет пятнадцать назад Тишендорф выудил из корзины, а много, много больше.
Помимо восьмидесяти шести страниц Ветхого Завета, которые он видел ранее, здесь было еще сто двенадцать листов, а также величайшее сокровище, главная цель всех его устремлений - по всей видимости, полный Новый Завет. Столь полного текста не давали ни Александрийский, ни Ватиканский кодекс. Он пересчитал страницы: их было триста сорок шесть. Он просмотрел текст, чтобы убедиться, все ли Евангелия, все ли Послания на месте. То, что он сейчас исследовал, было уникальным текстом Нового Завета, сохранившимся во всей полноте с эпохи, столь близкой действительному времени его создания. Мог ли он поверить своим глазам, когда в конце текста Нового Завета заметил Послание Варнавы? Это было сочинение апостольского ученика, которое впоследствии, при составлении канона, после долгих колебаний исключили из текста Нового Завета. Большая часть его считалась утерянной, и до нас дошли только отдельные фрагменты в скверных латинских переводах. Тишендорф с трудом сдерживал свою радость. Но на этот раз он решил действовать осторожно, чтобы не возбудить подозрения братии и снова не упустить свою добычу. Между тем в келье эконома собрались монахи, и среди них Кирилл. Они могли засвидетельствовать полное бесстрастие, с которым немецкий профессор просматривал объемистый манускрипт. Не зная досконально содержания этих листов пергамена, они просто неспособны были, решил Тишендорф, оценить по достоинству их значение. Он небрежно спросил, можно ли ему взять листы в свою комнату для более детального изучения, и разрешение было дано с легкостью. В более позднем изложении этой истории он попытался отразить чувства, охватившие его, когда он наконец остался один: «Здесь, наедине с самим собой, я мог дать волю своему восторгу. Я знал, что держу в руках самое драгоценное из существующих библейских сокровищ - документ, чей возраст и значение превосходили возраст и значение всех рукописей, с которыми мне доводилось знакомиться за двадцать с лишним лет изучения своего предмета…»
Он начал составлять полную опись содержания этих трехсот сорока шести страниц. Помимо двадцати двух книг из Ветхого Завета, в большинстве своем полных, преимущественно пророческих и поэтических по содержанию, здесь были также и части библейских апокрифов. Новый Завет был вообще без пробелов. Когда он перелистал его и прочел Послание Варнавы, в его мозгу мелькнула мысль: а не может ли здесь оказаться еще один бесследно исчезнувший текст, так называемый «Пастырь» Гермы? Он почти устыдился ненасытности своих надежд перед лицом уже столь щедро дарованной благодати. Затем взгляд его упал на лежащий перед ним довольно выцветший лист. Заголовок гласил: «Пастырь».
Было восемь часов вечера. О том, чтобы лечь спать, не могло быть и речи. Хотя лампа давала только тусклый свет и было довольно прохладно, Тишендорф засел за переписку Послания Варнавы и спасенной части «Пастыря» Гермы.
Рано утром следующего дня он послал за экономом. Дав понять, что располагает изрядным количеством золота, он предложил уступить ему рукопись в обмен на щедрое денежное пожертвование, причем двойное: как монастырю, так и лично эконому. Последний, как вынужден был признать Тишендорф, «поступил благоразумно, отвергнув его предложение». Тогда Тишендорф объяснил, что он просто хотел скопировать рукопись. Против этого эконом не возражал. Но как это было сделать? Манускрипт содержал около ста двадцати тысяч строк, написанных трудным для чтения александрийским письмом. Работа заняла бы по крайней мере год. Тишендорф не был готов к тому, чтобы задержаться в монастыре Святой Екатерины на такой долгий срок. Может быть, монахи позволят взять кодекс в Каир, где ему окажут помощь? Братия согласилась на это практически единодушно, если не считать старца Виталия, хранителя церковной утвари, ведавшего библиотекой, совмещенной со складом, откуда рукопись, по всей вероятности, и была первоначально извлечена. Была и еще одна трудность: настоятель Дионисий - а за ним было последнее слово - незадолго до этого уехал в Каир, чтобы вместе с настоятелями других синайских монастырей избрать нового архиепископа, который должен был сменить недавно умершего столетнего архиепископа Константина.
Тишендорф решил последовать за настоятелем в Каир, взяв с собой письма от Кирилла и эконома, в которых они горячо поддерживали его план. В Каире он поспешил в Синайский монастырь, где собрался синод настоятелей, и к вечеру разрешение на доставку манускрипта в Каир было получено. За рукописью в Синай был отправлен бедуинский шейх. Через десять дней манускрипт с «дромадерским экспрессом», скорости которому значительно прибавили щедрые посулы Тишендорфа, прибыл в Каир. Договорились, что Тишендорф будет брать для копирования каждый раз по одному «кватерниону», то есть по восемь страниц. Ему предстояла необъятная работа, которую, кстати, дальнейшее развитие событий лишило всякого смысла. Два месяца проработал Тишендорф в своей комнатке в «Отель де пирамид», не дающей никакого спасения от нескончаемого шума и гама каирской улицы.
Чтобы ускорить дело, он нанял двух живущих здесь немцев, получивших некоторое классическое образование, - врача и аптекаря. Под его наблюдением они приступили к работе. Но с каждым шагом трудность стоящей перед ними задачи становилась все очевиднее. Помимо того что многие места в рукописи совершенно выцвели, в ней была еще тьма поправок - около четырнадцати тысяч, - внесенных целым рядом «редакторов» уже после того, как текст был полностью записан. Некоторые страницы содержали более сотни таких исправлений. К тому же сам текст был написан несколькими почерками, и каждому были присущи своя манера, свои особенности. Над рукописью поработало по меньшей мере шесть «редакторов», и большинство из них, по-видимому, сделали это не менее тысячи лет назад.
Когда была скопирована почти половина тома, Тишендорф, к своему ужасу, узнал, что из-за неосторожной фразы, сказанной им представителю германского консульства, тайна стала известной только что прибывшему английскому ученому. Более того, англичанин получил доступ в монастырь, где хранился кодекс, и, не тратя времени даром, стал предлагать монахам деньги. Тишендорф, прибывший в монастырь вскоре после англичанина, на какое-то время совершенно потерял самообладание. Однако настоятель успокоил его, сказав: «Мы скорее преподнесем рукопись императору Александру в качестве подарка, чем продадим ее за английское золото».
Столь благородная идея, разумеется, тотчас нашла отклик в душе хитрого Тишендорфа, который, как он сам сознавался, «был в восторге от такого проявления веры и рассчитывал воспользоваться им в будущем». С особой настойчивостью принимается он теперь убеждать синайских монахов в величии этого шага, который отразил бы их преклонение перед царем как заступником православной веры. Раздражение, которое он испытал из-за появления соперника-англичанина и из-за разглашения его тайны, побудило его публично объявить о своих новых открытиях. Как победоносный генерал, он составил коммюнике о своем триумфе, отослал его министру народного просвещения Саксонии, а в середине апреля 1859 г. опубликовал в научном приложении к «Лейгашгер Цайтунг».
Мысль о том, что манускрипт следует преподнести царю, очевидно, показалась синайской братии весьма соблазнительной. Но тут возникли неожиданные осложнения. На преподнесение столь ценного подарка, как библейский кодекс, требовалось разрешение каирского архиепископа, однако митрополит Греческой православной церкви в Иерусалиме был настроен против вновь избранного архиепископа и отказывался посвящать его в сан. Вдобавок к этому избрание должно было быть утверждено турецким правительством и египетским вице-королем. Обе инстанции затягивали решение дела. Следовательно, назначение архиепископа пока не могло рассматриваться как вполне законное, в связи с чем он отказывался взять на себя ответственность за решение судьбы кодекса. Однако он намекнул, что в случае, если его высокие полномочия будут подтверждены, он не будет возражать против передачи кодекса царю.
Тишендорф сумел ловко вмешаться в конфликт по поводу избрания нового архиепископа. Он выступал уже не как простой проситель. На этот раз он дал понять монахам, что, будучи посланником царя, он постарается употребить все свое влияние, чтобы склонить дело в их пользу. Монахи были весьма обеспокоены затянувшимся епископальным междуцарствием, которое внесло в их общину апатию и беспорядок. Когда Тишендорф услышал о прибытии в Иерусалим великого князя Константина, он прервал работу и нанял судно, которое доставило его и еще троих человек в Яффу. С этого момента он стал постоянным компаньоном брата царя во время его пребывания в Святой земле. Позже он отправился в Смирну и на Патмос и по дороге туда приобрел несколько ценных рукописей, которые отправил в качестве подарка царю Александру.
Вернувшись в Каир, Тишендорф узнал, что избрание нового архиепископа так и не было подтверждено из-за упрямого нежелания иерусалимского митрополита. В конце концов все еще не вступивший в должность архиепископ сам пришел просить Тишендорфа, авторитет которого значительно возрос благодаря его отношениям с великим князем, использовать все его возможности в защиту интересов общины. Тишендорф с радостью согласился выполнить возлагаемую на него миссию, учитывая, как он без обиняков отметил, «тесную связь между их и моими собственными интересами». Впрочем, во время пребывания в Константинополе его интересы сразу вышли на первый план.
В лице русского посла в Высокой Порте князя Лобанова Тишендорф нашел преданного союзника, который радушно приютил его в своем загородном доме на берегу Босфора. И здесь Тишендорф стал проявлять все больше беспокойства по поводу своих дел: «Ожидать месяц за месяцем конца монастырской свары - это никоим образом меня не устраивало». И он нашел решение. Он составил искусный документ и убедил русского посла подписать его. В этом документе русское правительство предлагало, учитывая тот факт, что формальное облечение властью архиепископа все еще ожидало подтверждения, отправить библейский кодекс в Санкт-Петербург во временное пользование. Он будет считаться собственностью монастыря вплоть до того момента, когда его официально преподнесут царю. Если в силу каких-либо непредвиденных обстоятельств акт дарения не состоится, манускрипт, безусловно, будет возвращен монастырю. С таким документом на руках Тишендорф вновь отправился морем в Египет. По его возвращении монахи горячо благодарили его за те усилия, которые он предпринял, чтобы решить дело в их пользу, и подписали документ, разрешающий ему забрать кодекс во временное пользование в Санкт-Петербург, «чтобы скопировать там насколько возможно точно».
Наконец он получил возможность вернуться в Европу со своим драгоценным грузом - «богатой коллекцией древних греческих, сирийских, коптских, арабских и других манускриптов, среди которых, как алмаз в короне, сверкала „Синайская Библия“». По пути Тишендорф, который обожал монархов любой национальности, выкроил время, чтобы продемонстрировать свои трофеи императору Францу Иосифу в Вене, а несколькими днями позже и своему собственному повелителю, саксонскому королю Иоганну. Затем он продолжил свой путь и прибыл в Царское Село, царскую резиденцию близ Санкт-Петербурга, где преподнес рукопись Их Величествам. Тишендорф использовал предоставившуюся возможность для того, чтобы внушить императору мысль о необходимости «издания этой Библии, которое было бы достойно как самой книги, так и императора и явилось бы одним из величайших предприятий в области критики и исследования Библии». Кто именно должен стать во главе предприятия, подразумевалось само собой. Тишендорф получил приглашение остаться в Санкт-Петербурге для выполнения этой работы, но он отклонил приглашение, мотивируя отказ личными обстоятельствами, а также тем, что в Лейпциге он будет располагать гораздо большими полиграфическими возможностями.
Подготовка факсимильного издания кодекса в четырех томах заняла три года. Эта работа оказалась одной из труднейших задач, когда-либо поставленных перед собой Тишендорфом, и, по-видимому, в конце концов она подорвала его здоровье. Надо было, например, изготовить адекватные греческие литеры для различных стилей написания унциальных букв, а также для значительно более мелкого шрифта исправлений, сделанных в тексте, которые следовало включить в факсимильное издание. Тишендорф собственноручно измерял расстояние между каждыми двумя буквами, чтобы достичь максимально возможного подобия. Поскольку текст рукописи был нечетким и частично выцветшим, фотокопирование при тогдашнем уровне фототехники было неосуществимым. (Впоследствии, в начале XX в., кодекс был сфотографирован гарвардским профессором Кэрсопом Лейком и его супругой, а затем опубликован издательством Оксфордского университета - Новый Завет в 1911 г. и Ветхий Завет в 1922 г.) Кроме того, следовало разобраться в чтении всех содержащихся в тексте исправлений и включить их в свою копию. Затем нужно было вычитывать корректуры. Когда вся эта работа была проделана, целый вагон тяжелых томов - тридцать один ящик с тысячью двумястами тридцатью двумя фолиантами общим весом около 60 тонн - был отправлен в Санкт-Петербург, где книге предстояло выйти в свет в ознаменование тысячелетнего юбилея русской монархии осенью 1862 г. Издание было озаглавлено следующим образом:
SINAITICUS PETROPOLITANUS,
Спасенный из мрака под покровительством Его Императорского Величества императора Александра II. доставленный в Европу и изданный к вящему благу и славе христианского учения трудами К. Т.
В посвящении своему блистательному патрону Тишендорф подчеркивал уникальность манускрипта, большое значение которого, «с надеждой провозглашаемое его открывателем с самого начала, было блестяще подтверждено… Нет другого подобного документа, который мог бы представить более веские доказательства своего древнего благородного происхождения. Преподобные Отцы Церкви, жившие в древнейшую пору христианства, свидетельствуют о том, что в их эпоху Церковь черпала слово Божие из документов, весьма сходных с этим».
С этого момента награды и почести посыпались на Тишендорфа дождем. Император России даровал ему и его потомкам дворянство. Папа, получив экземпляр факсимильного издания, лично выразил ему свои поздравления и восхищение.
Однако великий триумф Тишендорфа был омрачен злобными нападками на его честность и на ценность его находки. В определенном смысле приключенческий роман продолжался. Правда, продолжение его носило скорее характер плутовского романа - с появлением на сцене мошенника, изобретательного грека Симонида. Новый акт драмы заключался в схватке между величайшим палеографом века и человеком, который мог бы с полным правом претендовать на не менее высокий титул в своей менее похвальной профессии изготовителя поддельных рукописей. По иронии судьбы и ученый, и плут носили византийское имя Константин.
Страница из тишендорфовского печатного факсимильного издания Синайского кодекса (Евангелие от Марка 1,1–4)
Симонид родился, вероятно, в 1824 или 1819 г. (позже он называл 1815 г.) на небольшом острове Симэ в Эгейском море. В раннем возрасте оставшись сиротой, он был воспитан дядей - настоятелем одного из монастырей на горе Афон. Здесь Симонид овладел искусством каллиграфии и имел возможность копировать различные древние тексты. Он, безусловно, приобрел удивительные познания в области использования разнообразных материалов для письма в древние времена, различных стилей письма и особенностей языка. После смерти своего наставника Симонид появился в Афинах, где продал греческому правительству несколько пергаменов, которые он, очевидно, прихватил в качестве сувениров в гостеприимном монастыре. Он обнаружил, что спрос на рукописи велик, а запасы его иссякают, и решил заняться их пополнением. Вскоре он произвел сенсацию, предъявив рукописи, происходящие якобы из никому дотоле не ведомого центра учености, расположенного не где-нибудь, а на безвестном островке Симэ. По ним можно было составить впечатление, что предки Симонида в XIII в. предвосхитили все технические достижения середины XIX в., включая пароход. Другой манускрипт представлял его предполагаемого автора, греческого монаха из позднего Средневековья, изобретателем фотографии. Эти документы, явно взывавшие к эллинскому патриотизму и ловко преподнесенные их открывателем греческому государственному деятелю Мустоксидису, почти с самого начала вызвали подозрения. Мустоксидис, будучи сам ученым, заявил, что это подделка. Однако комиссия медлила вынести окончательное решение. Каким образом, вопрошали ученые, столь молодой человек, как Симонид, имеющий такие пробелы в образовании, мог создать подобные искусные подделки?
Вид горы Афон на северо-востоке Греции - средоточия православных монастырей, издавна славившихся своими рукописными собраниями
Между тем Симонид благоразумно проследовал в Константинополь. Здесь он получил право на ведение археологических раскопок в районе старого ипподрома. И через необыкновенно короткое время он появился вновь с бутылкой, набитой рукописными страницами. К несчастью для него, кто-то видел, как он во время обеденного перерыва сам же закапывал ее в землю. Симониду пришлось снова пуститься в странствия. Он неожиданно возникал в разных местах Леванта, от Александрии до Одессы. На некоторое время, имея на то веские причины, он вернулся на гору Афон, а затем решил облагодетельствовать плодами своего замечательного таланта Англию и Германию. Почему он избрал эти страны? Потому ли, что считал англичан и немцев наиболее легковерными по части древностей, или они были щедрее других, когда дело доходило до уплаты больших сумм во имя удовлетворения страсти к старым пергаменам? Во всяком случае, эти две страны были наиболее активными центрами палеографических исследований. Они являлись богатейшими рынками сбыта рукописей. То, что среди ученых в этих странах были весьма проницательные люди, Симониду было, по-видимому, тоже известно. Но он был готов рискнуть.
В Германии он предложил палимпсест давно утерянного «Урания» - эллинистической истории египетских царей. Старший коллега Тишендорфа, лейпцигский профессор Вильгельм Диндорф, заявил, что манускрипт подлинный. Одна берлинская ученая коллегия согласилась с его мнением и рекомендовала приобрести рукопись. Единственным, кто отнесся к этому скептически, был Александр Гумбольдт. В последнюю минуту Диндорф показал несколько страниц Тишендорфу. Он тут же распознал подделку и телеграфировал свое мнение в Берлин. Угроза компрометирующего разоблачения и скандала позволила Симониду сохранить свою свободу, но он был глубоко уязвлен вмешательством Тишендорфа. Открытие Синайского кодекса предоставило ему возможность реванша. Но теперь роли переменились. Симонид уже не отказывался, что прежде изготовлял поддельные рукописи. Наоборот, в сентябре 1862 г. он неожиданно признался в том, что изготовил целиком весь кодекс, который Тишендорф привез с Синая. Симонид сочинил запутанную историю, которая должна была объяснить, зачем он изготовил рукопись, не собираясь якобы вводить кого-либо в заблуждение относительно ее возраста.
Потрясающее разоблачение вызвало замешательство, и кое-где, особенно в Англии, ему поверили. Пресса восприняла скандал с восторгом. «Кто же обманщик и кто обманутый?» - гласил заголовок газетной статьи, разоблачающей немецкого ученого. Возможно ли, вопрошал автор статьи, чтобы в Синайском монастыре, где высокообразованным англичанам не удалось обнаружить чего-нибудь стоящего, Тишендорф смог извлечь столь ценные пергамены из груды хлама? И кто он, в конце концов, такой, этот Тишендорф? Кто он в сравнении с его выдающимися соотечественниками Диндорфом и Лепсиусом, которые оба были позорно обмануты Симонидом? Не выглядит ли дело таким образом, что Тишендорф не устоял перед соблазном увидеть свое имя прославляемым по всей Европе, чего бы это ни стоило?
Некоторые из этих мнений были подхвачены врагами Тишендорфа в Германии. Ему же все дело казалось дурной шуткой. То, что Симонид мог написать этот кодекс, выглядело столь же правдоподобно, по словам Тишендорфа, как если бы кто-нибудь заявил: «Это я построил Лондон» или «Я поместил гору Синай на то место в пустыне, где она сейчас находится».
Однако окончательно опровергли выдумку Симонида внутренние свидетельства самого текста. Синайский манускрипт был написан по меньшей мере тремя различными почерками, не считая множества почерков, наличествующих в поправках, которыми были представлены различные стили письма, последовательно датируемые веками с IV по XII. Ни на горе Афон, ни где-либо еще не существовало такого унциального документа или подборки документов, откуда это можно было бы скопировать. Другой греческой версии фрагментов Послания Варнавы вообще не было. Сама рукопись имела пометы, свидетельствующие о том, что она в VII в. находилась в Кесарии (Палестина). Кроме того, как можно было иначе объяснить тот факт, что до нас дошла только половина рукописи, тогда как фрагменты ее появлялись в переплетах, сделанных несколькими веками раньше? Как было отмечено впоследствии в посвященной Синайскому кодексу публикации Британского музея, «невероятность этой истории настолько очевидна, что не нуждается в доказательствах».
Симонид никогда не пытался написать хотя бы одну страницу таким унциальным библейским письмом, каким был написан кодекс. Кроме того, его уличали и во всевозможных противоречиях. Например, он утверждал, что видел весь манускрипт целиком в Синае в 1852 г., забыв о том факте, что Тишендорф заполучил сорок три страницы восемью годами раньше.
Как же обстояло дело с предполагаемым подношением кодекса царю? Архиепископский кризис в синайской общине затянулся на годы и в конце концов вылился во внутреннюю междоусобицу, которая окончилась лишь смещением в 1867 г. выбранного кандидата и единогласным избранием его преемника. Только в 1869 г. передача рукописи русскому монарху была оформлена официально. Предложенные царским правительством 9000 рублей были приняты синайскими монахами, которые поспешили скрепить «дар» подписанным по всей форме документом. Рукопись наконец была водворена в Публичную библиотеку Санкт-Петербурга. С новым архиепископом Тишендорф поддерживал дружескую переписку. 15 июля 1869 г. прелат писал ему: «Как вы знаете, этот прославленный манускрипт с текстом Библии теперь уже преподнесен достойнейшему императору и самодержцу всея Руси в знак нашей и всех синайских монастырей вечной благодарности». Впоследствии, однако, у новых поколений монахов вошло в привычку с горечью говорить об этой сделке Тишендорфа, и почти каждый, кто с той поры побывал в монастыре Святой Екатерины, возвращался домой с рассказами, выставлявшими Тишендорфа в неблагоприятном свете.
Сидоров Юрий
"СИНАЙСКИЙ ДНЕВНИК" \ Часть 8
Начиная с 2001 года, я был в монастыре св Екатерины бесчисленное количество раз, но не разу не был в его библиотеке - это одно из моих основных желаний и устремлений. Как только заходил разговор о библиотеке всегда находилась причина мне отказать её увидеть, то нет света, то ремонт и тп.
Библиотека монастыря является крупнейшей и по значимости, второй после ватиканской. Одной из самых значимых рукописей библиотеки был Синайский кодекс, который по единодушному мнению исследователей датируется IV веком. Тишендорф верил, что Синайский кодекс входит в число пятидесяти рукописей Божественных Писаний, заказанных около 331 года императором Константином Великим Евсевию Кесарийскому. С этим предположением многие ученые согласились.
История обретения Синайского Кодекса - это увлекательный рассказ об интригах, политиках и российской дипломатии XIX века.
ОТКРЫТИЕ РУКОПИСИ
Эта рукопись, вероятно, была замечена еще в 1761 итальянским путешественником, Виталиано Донати, когда он посетил Монастырь Святой Екатерины на Синае. В своём дневнике, который был издан в 1879, он написал:
В этом монастыре я нашёл несколько пергаментных рукописей… Среди них такие, которые могут быть древнее седьмого века, особенно Библия, написанная на тонком прекрасном пергаменте большими, квадратными и круглыми буквами...".
В монастыре св. Екатерины было тогда три библиотеки, размещавшихся в трех отдельных помещениях, и в них, по мнению Тишендорфа, насчитывалось около 500 древних рукописей.
В 1844 году, работая в главной библиотеке монастыря, Тишендорф увидел корзину, полную листов древней рукописи. Ученый осмотрел листы - это был древний список Септуагинты, написанный красивым унциальным письмом. Подошедший монах-библиотекарь сказал, что уже две таких корзины были преданы огню и содержимое этой корзины тоже должно быть сожжено, Тишендорф попросил этого не делать, сославшись на ценность древнего манускрипта. В корзине было 43 листа, и еще 86 листов того же кодекса ученый нашел в библиотеке. Ему разрешили приобрести 43 пергаментных листа Синайского кодекса для саксонского короля Фридриха Августа II, которые он издал в Лейпциге в 1846 г. под названием "Codex Friderico Augustanus".
Но, как писал Порфирий Успенский:
Греческие иноки под разными предлогами не показывали ему (Тишендорфу) драгоценных рукописей, хранимых в тайниках святых обителей их. Эти иноки, давно напуганные фирманами Порты, уполномочивающими европейских путешественников проникать в ризницы и книгохранилища православных монастырей, и обижаемые неблагоприятными отзывами о них в описаниях путешествий, отчасти справедливо уклонялись от просьб Тишендорфа, который не имел и не имеет главной привлекательной силы, т.е. исповедание православной веры»
Именно в монастыре св Екатерины в 1845 году Порфирием Успенским, во время первого путешествия на Синай, была обнаружена и описана основная часть рукописной греческой Библии — знаменитый Синайский кодекс (Codex Sinaiticus) IV в. (в 1844 г. немецкий ученый видел лишь 129 листов).
Первая рукопись, содержащая Ветхий Завет неполный и весь Новый Завет с посланием ап. Варнавы и книгой Ермы, писана на тончайшем белом пергаменте. (…) Буквы в ней совершенно похожи на церковно-славянские. Постановка их прямая и сплошная. Над словами нет придыханий и ударений, а речения не отделяются никакими знаками правописания кроме точек. Весь священный текст писан в четыре и два столбца стихомерным образом и так слитно, как будто одно длинное речение тянется от точки до точки.
В 1844-1845 гг., по мнению епископа Порфирия, «в европейском вкусе» были перестроены гостиничные помещения вдоль северо-западной стены.

Литография Порфирия Успенского 1857 г.
КАТАЛОГ РУКОПИСЕЙ ПОРФИРИЯ УСПЕНСКОГО
За годы работы в Миссии архимандрит Порфирий со своими сотрудниками объездил все святыни Востока. С 18 марта по 17 августа 1850 г. им было предпринято второе путешествие по Египту, во время которого участники экспедиции посетили монастырь Саввы Освященного в Александрии, Новую Патриархию и Никольский храм в Каире, древние монастыри преп. Антония Великого и Павла Фивейского на Красном море, монастырь Св. Екатерины на Синае.
В монастыре Святой Екатерины (июнь-август 1850 г.) Порфирий по просьбе братии составляет каталог греческих рукописей монастырской библиотеки. Это был первый научный каталог самой древней и богатой библиотеки православного Востока. Активное участие в его создании принимали, под руководством своего начальника, все члены Миссии, которых архим. Порфирий вовлекал в свои научные занятия. Лишь спустя 60 лет этот каталог издал другой известный византинист В. Н. Бенешевич. Несмотря на вековую давность, Порфириевский каталог и сегодня во многом сохраняет свое научное значение.
ЖИЗНЬ МОНАСТЫРЯ В 1853 - 1858 г.г.
В 1853 году Константин Тишендорф второй раз прибыл в Синайский монастырь, с целью купить оставшиеся листки Синайской рукописи, но монахи ему отказали.
Во время Крымской войны (1853-1856) связи Синая с Россией были прерваны. Прибывший в монастырь в декабре 1856 г. российский писатель В. К. Каминский отметил, что, по словам синайских старцев, около 5 лет в монастыре не было ни одного паломника из России. За эти годы число насельников в обители оставалось прежним.
Братия, коих застал я двадцать человек - греков, болгар и одного русского, живут в этой обители, как в крепости, осажденной неприятелем, и редко выходят за ограду".
В монастыре Каминский навестил русского инока Аркадия, уроженца Санкт-Петербургской губернии. Он вел строгую подвижническую жизнь: редко выходил из своей кельи, молился и работал; почти не носил одежды и питался только сухарями и чаем. Долгое время старец Аркадий жил на Афоне, на Синае подвизался к тому моменту уже 10 лет.
В последние годы жизни Константия I его наместником монастыря был архимандрит Кирилл Византийский, прежде бывший игуменом одного из синайских подворий в Молдавии. Константий рекомендовал братии избрать Кирилла своим преемником. Однако, призвав перед смертью Иерусалимского патриарха Кирилла II, он изменил решение, сообщив на исповеди, что Кирилл Византийский недостоин этого сана.
КИРИЛЛ ВИЗАНТИЙСКИЙ
Синайская братия, поддавшись уговорам Кирилла Византийского, избрала его архиепископом (7 января 1859) и настаивала на его рукоположении.
В феврале 1859 г.,Константин Тишендорф, путешествуя за счет русского правительства с целью отыскания и приобретения для России древних рукописей, нашел в монастыре св. Екатерины большую часть кодекса (347 листов ), который им был обнаружен в 1844 году. Вознамерившись издать текст памятника, он приложил все усилия к тому, чтобы приобрести саму рукопись.
Действительно существовала договоренность о том, что Библия будет поднесена в дар императору Александру II в обмен на поддержку русского правительства в деле рукоположения и утверждения Кирилла в сане архиепископа Синайского. Этому препятствовал Иерусалимский патриарх.
В августе 1859 г. Тишендорф отправился в Константинополь и просил содействия русского посланника при дворе султана Османской Империи князя А.Б. Лобанова-Ростовского. Затем, не дожидаясь рукоположения Кирилла, ученый решил взять рукопись в Петербург на условиях временного держания, для осуществления издания. Заручившись гарантийным письмом князя Лобанова-Ростовского (от 10 сентября /ст. ст./ 1859 г. ДОКУМЕНТ )
<…> Господин Тишендорф сообщил мне, что почтенная братия Синайской горы намеревается через его посредство поднести некую древнюю библейскую рукопись в дар Его Величеству Императору Александру II. Поскольку дарение не может быть осуществлено официально до того, как вновь избранный настоятель будет признан Высокой Портой, в ожидании этого господин Тишендорф желает взять названную рукопись в Санкт-Петербург заимообразно для того, чтобы при печатании ее сверять свою копию с оригиналом.
Поддерживая это желание Господина Тишендорфа, я заявляю, что в случае если будет сочтено возможным пойти ему навстречу, рукопись останется собственностью братии Синайского монастыря до тех пор, пока настоятель не поднесет ее официально Его Императорскому Величеству от имени братии …"
И с согласия братии монастыря, 16/28 сентября он увез рукопись из монастыря. О том, как именно была достигнута договоренность между архиепископом Кириллом, князем Лобановым и Тишендорфом, последний подробно рассказывает в докладной записке, поданной им министру народного просвещения Евграфу Петровичу Ковалевскому 30 марта / 11 апреля 1860 г. ДОКУМЕНТ
<…> рукопись формально была отдана в мои руки именно для того, чтобы опубликовать ее текст. Само по себе это дело весьма важно для ученого мира; но в то же время я рассматривал эту договоренность как средство обеспечить дарение оригинала Императорскому Правительству. Сама братия в этом тоже была полностью со мной согласна. Заметив, что они желают отправить со мной представителя для поднесения Его Императорскому Величеству, я выбрал отца Агафангела, настоятеля Каирского подворья, бывшего раньше архимандритом Киевского подворья. Архиепископ одобрил этот выбор. Итак, мы договорились, что сразу после рукоположения князь Лобанов известит меня об этом по телеграфу, и представитель будет немедленно отправлен навстречу мне в Санкт-Петербург."

Князь Алексей Борисович Лобанов-Ростовский, посланник и полномочный министр в Константинополе(1859—1863). Кирилл II Византийский (?-1882 г.г), с 1859 - 1867 г.г. архиепископ Синайский, Фаранский и Раифский.
Поскольку Иерусалимский патриарх отказывался рукополагать Кирилла Византийского, то была назначена комиссия из патриархов для решения этого вопроса, которая признала избрание Кирилла III законным (октябрь 1859).
Так как, несмотря на увещания Константинопольского и Александрийского патриархов, Кирилл II Иерусалимский настаивал на своем мнении, то рукоположение Кирилла было совершено в виде исключения Константинопольским патриархом Кириллом VII (25 ноября \ 7 декабря 1859) в церкви св. Иоанна Предтечи на Синайском подворье в Константинополе с сохранением на будущее время права Иерусалимского патриарха на рукоположение Синайского архиепископа.
После хиротонии архиепископ Кирилл не требовал возврата Библии, но и не торопился с официальным подтверждением дарения. Представитель монастыря так и не явился в Петербург, для официального подношения рукописи императору Александру II.
В 1860 г. императором Александром II на Синай была послана 2-я серебряная рака для мощей вмц. Екатерины, которая, как и рака 1689 г., находится в алтаре собора.

Император Александр II. Рака.
Под эгидой монастыря находилась мужская школа Абетион, основанная в 1860 г. в Каире на средства братьев Рафаила и Анании Абетов (Амбетов), греческих купцов, имевших российское подданство.
По окончании печатания четырехтомного издания Синайской Библии 29 октября /ст. ст./ 1862 г. Тишендорф поднес древний оригинал Александру II. Ни у кого не возникало сомнений в том, что рукопись остается собственностью Синайского монастыря до тех пор, пока дарение не будет оформлено официальным образом. Русское правительство по-прежнему ожидало этого, располагая сведениями о состоянии дела от Тишендорфа и рассчитывая на его посредничество. Последний не прекращал писать архиепископу Кириллу до 1868 г., но тот не давал никакого решительного ответа. Тишендорф надеялся снова отправиться на Синай за счет русского правительства и, вручив архиепископу вознаграждение, добиться оформления дарственного акта. Однако эта инициатива не была поддержана. Решение вопроса было поручено министерству иностранных дел, а сама рукопись временно помещена в несгораемый шкаф в архиве министерства.

Кирилл VII (Патриарх Константинопольский), Кирилл II (Патриарх Иерусалимский)
В 1862 г. монастырь посетил известный путешественник-востоковед, бывший министр народного просвещения А. С. Норов, в 1865 г.- историк и общественный деятель Д. Д. Смышляев.
Утрата владений монастыря в Сербии и в Дунайских княжествах, секуляризованных господарем Александру Кузой (первый правитель объединённой Румынии), и имущества древних греческих монастырей в период реформ 1858-1864 гг. вызвала экономический кризис обители.
Архиепископ Кирилл вызывал все большее недовольство братии своим тираническим правлением. Он всячески старался ослабить значение монастырского собора, удалил неугодных ему старцев, нарушал многие правила и данные им обещания, произвольно тратил на свои нужды имущество и доходы монастыря.
В 1860-1865 гг. архиепископ оформил на себя пожизненное право пользования доходами с имений монастыря в Бессарабии. Одни только учтенные растраты Кирилла оценивались в астрономическую сумму 58 383 австрийских дуката (по другим подсчетам, 62 683 дуката), что составляло на то время приблизительно 180 000 рублей серебром; к этому следует прибавить многочисленные ценные вещи, предметы церковного обихода и документы, взятые им из ризницы монастыря св. Екатерины и Каирского подворья.
Зимой 1865-1866 гг. конфликт дошел до открытых столкновений. Архиепископ и его помощники подвергли нескольких монахов избиению, заключению и ссылке. Иноки неоднократно жаловались патриарху Иерусалимскому и греческому консулу, Кирилл принимал ответные меры.
Иерусалимский патриарх Кирилл, сочувствуя синаитам, тем не менее не спешил удовлетворить их требования о суде над Кириллом Византийским, сознавая сложность этого процесса. В том же году братия монастыря (6 июля) и насельники Джуванийского подворья (17 июля) заявили о низложении Кирилла Византийского, что было подтверждено соборными определениями синайского братства от 24 августа 1866 г.
АРХИЕПИСКОП КАЛЛИСТРАТ III
На следующий год в монастыре (21 января 1867 г) прошли выборы нового архиепископа. Единогласно архиепископом с именем Каллистрат III был избран архимандрит Кирилл (Родикис), бывший с 1859 по 1861 г. дикеем Джуванийского подворья.
Когда Константинопольский патриарх Григорий VI выразил неодобрение действиям синаитов, те прибегли к суду Иерусалимского патриарха.
Для рассмотрения дела 21 июня /ст. ст./ 1867 г. Иерусалимский патриарх Кирилл созвал поместный собор и призвал архиепископа Кирилла на суд, но тот не явился. Тогда суд состоялся заочно, и ниспровержение Кирилла было подтверждено соборным постановлением от 24 августа /ст. ст./ 1867 года. Об этом решении было сообщено окружными посланиями всем автокефальным православным Церквам, на которые с сочувствием и одобрением ответили патриархи Антиохийский и Александрийский, архиепископ Кипрский и Синод Элладской Церкви.
30 августа /ст. ст./ 1867 г. патриарх Иерусалимский рукоположил Каллистрата в сан архиепископа Синайского.
Сообщая о хиротонии Каллистрата Святейшему Синоду Русской Православной Церкви и прося всяческого содействия, патриарх Иерусалимский Кирилл пишет в С.-Петербург в послании от 21 сентября /ст. ст./ 1867 г.:
<…> Но так как эта священная обитель приобретает и в Богохранимой Российской державе, равно как и в других местах, средства, потребные к содержанию, то братски, с дерзновением, просим вожделенную любовь Вашу не переставать и на будущее время покровительствовать ей с ревностию, оказывая в нужных случаях содействие его Преосвященству [Каллистрату], а всякое действие бывшего Синайского архиепископа, касающееся выгод этой священной обители, считать недействительным и незаконным …
Однако Кирилл Византийский заявил о своей неподсудности Иерусалимскому патриарху и апеллировал к Константинопольскому патриарху и Высокой Порте. В следствии этого Высокая Порта не утвердила суд над Кириллом Византийским и поручила Константинопольской Патриархии рассмотреть синайское дело вместе с патриархом Иерусалимским. Тогда по просьбе Кирилла II Иерусалимского Антиохийский и Александрийский патриархи Иерофей и Никанор выступили с заявлением, что
...патриарх Иерусалимский по церковным законам имеет право суда над игуменом-архиепископом Синайским, что все сделанное им по синайскому делу совершенно законно и правильно и что патриарх Константинопольский, как и всякий другой, не имеет никакого права вмешиваться в это дело».
В следствии согласного ходатайства патриархов Высокая Порта признала законность решения Иерусалимского Синода и утвердила избрание нового архиепископа.

Граф Игнатьев Н.П. посол в Константинополе (1844 - 1877 гг). Григорий VI (Патриарх Константинопольский)
Признание свершившегося факта со стороны Вселенского патриарха Григория последовало только 11 января /ст. ст./ 1868 г. Еще год понадобился для утверждения Каллистрата со стороны вице-короля Египта. На протяжении всего этого времени Кирилл, живя в Константинополе, продолжал именоваться архиепископом Синайским и активно боролся за сохранение своего сана.
В связи с неясностью статуса архиепископа Кирилла и архиепископа Каллистрата, русский посланник в Константинополе граф Н.П. Игнатьев распорядился не передавать ни тому, ни другому поступавшие из России через Генеральное консульство в Египте доходы монастыря. Эти средства были задержаны в консульстве с января 1867 г. по август 1868 г.
Из донесения Генерального консула в Александрии И.М. Лекса директору Азиатского департамента МИД Е.Е. Стаалю, за № 15, из Александрии от 26 января / 7 февраля 1868 г.:
<…> Монахи Синайской общины обратились ко мне с просьбою о выдаче им задержанных в Генеральном консульстве денег, вследствие просьбы Преосвященного Кириллы, основываясь на том, что Вселенская Церковь признала вновь избранного ими Преосвященного Каллистрата архиепископом Синайским.
[л. 3об.] Деньги принадлежащие монастырю задержаны в Генеральном консульстве вследствие предписания Императорского посольства от 4 января 1867 за № 5.
В феврале 1868 г. Константин Тишендорф снова приехал в Петербург и 29 февраля / 12 марта подал министру императорского двора графу А.В. Адлербергу II прошение о принятии мер для окончательного приобретения Россией Синайской Библии. Граф Адлерберг поручил барону М.А. Корфу выяснить у Тишендорфа все обстоятельства дела, которое было доведено до сведения императора и по его желанию поручено Н.П. Игнатьеву. От посреднических услуг Тишендорфа было решено отказаться.
Генерал Игнатьев в первую очередь обращается к настоятелю русской миссии в Иерусалиме архимандриту Антонину (Капустину), с которым его давно связывали дружеские и доверительные отношения. В письме из Буюкдере от 8 мая /ст. ст./ 1868 г. он пишет:
Другими словами - не пособите ли Вы мне покончить историю о похищенной нами Синайской Библии... Желательно получить акт Синайской обители, удостоверяющий, что драгоценная рукопись поднесена ею Государю Императору (в собственность), взамен чего мы могли бы дать три или четыре ордена каких угодно степеней, да пожалуй тысяч 10-12 руб. в придачу. Разумеется, чем меньше тем лучше, и тем Вам благодарнее будем."
А в письме от 18/30 июня 1868 г. Игнатьев отвечает о. Антонину следующее:
<…> За разъяснение вопроса о Синайской Библии и за переговоры Ваши по этому предмету с Каллистратом и с Патриархом большое спасибо Вам, отец Архимандрит, не только от меня, но и от всего русского ученого мира, очень интересующегося исходом недоразумений, порожденных немцем, желавшим еще раз прокатиться на казенный счет и под русским флагом в Синай и на Афон. Нет сомнения, что чем скорее Библия будет поднесена в собственность Государю, и чем меньше она стоить будет Прав[ительству], тем скорее устранятся все препятствия для разрешения всех Синайских затруднений.
Сознаюсь Вам откровенно (и совершенно доверительно), что одно теперь смущает меня. Я Вам сообщил, что мы готовы пожертвовать известную сумму и Вы в своих беседах не вышли из пределов мною назначенных. Но между тем Лекс, отправившийся с отцом, сказал и здесь, и в Петербурге, что Синайская братия (он ссылается на Каирское подворье) готова пожертвовать Библию даром, тем более, что она уже считается на Синае русскою (Александровскою) собственностью, лишь бы признали Каллистрата и дозволили бы обители получить секвестрованные нами в Египте деньги (из Бессарабских доходов, пожертвований и пр.). Эта операция (т.е. уплата Библии нашим согласием на низложение Кирилла и пожертвованием денег нам не принадлежащих) чрезвычайно понравилась в Петербурге, в особенности Канцлеру. Ему теперь жалко давать наши деньги, когда можно получить Библию даром, и он обвиняет в напрасной расточительности. Как полагаете Вы? Пока я отвечал, что нахожу приличнее дать какую-либо сумму нам принадлежащих денег, хотя бы и скудную, для того чтобы можно было сказать, что мы купили, а не стянули Библию."
29 июля /ст. ст./ 1868 г. Н.П. Игнатьев получил письмо от архиепископа Каллистрата из Иерусалима от 5 июля /ст.ст./ 1868 г. Последний удостоверял, что братия считает Библию подаренной императору с того самого дня, как Тишендорф увез ее в Петербург, и обещал в скорейшем времени прислать официальный дарственный акт.
<…> спешу уверить Вас, господин Посол, что книга, о которой идет речь, с того самого дня, когда была уступлена Его Императорскому Величеству, так и считается всеми вообще синайскими отцами окончательно подаренной Императору <…> Кроме того, обещаю, что как только с Божьей помощью и при высоком содействии Императора, я вернусь для желанного мне покаяния и займу свое место, желаю и посредством официального заявления, снабженного моей подписью и подписями старейших отцов монастыря, а также и его печатью, окончательно принести в дар названную рукопись Его Величеству…"
Игнатьев сообщает содержание письма В.И. Вестманну, товарищу министра иностранных дел; следуя указаниям архимандрита Антонина, он просит распорядиться о выделении 9000 рублей для Синайской братии и о награждении русскими орденами архиепископа Каллистрата и нескольких других монахов.
ДАРСТВЕННАЯ ГРАМОТА
Уже в сентябре архиепископ Каллистрат присылает Игнатьеву дарственную грамоту на Библию. Она была подписана архиепископом Каллистратом и собором синайского подворья в Каире. Однако подписи иноков монастыря св. Екатерины отсутствовали.
Деньги и награды были препровождены к графу Игнатьеву в Константинополь осенью 1868 г. Но он посчитал целесообразным дождаться получения дарственной грамоты, оформленной по всем правилам, и формального утверждения Каллистрата в сане архиепископа Синайского со стороны Египетского правительства, о чем пишет архимандриту Антонину в письме от 14 марта 1869 г.:
<…> Ради Вашей милости ратовал я за Каллистрата в течение всей зимы, и усилия наши увенчались наконец успехом. Доброе дело хочет сделать Каллистрат, поселившись в монастыре. Ради же Вас нажил я себе врага в Кирилле, поносящем теперь Посольство за не поддержку. У меня уже находятся (между нами сказано) ордена и пр. для Синайской обители, но так как документа окончательно нет у меня в руках, то я добро из рук не выпускаю. Я люблю к “стенке припереть”, ибо иначе — ничего не выжмешь из упорных…
В соглашении архиепископа Каллистрата III с синайской братией помимо обычных пунктов о строгом следовании общежительному уставу, о совместном решении всех проблем с собором старцев, о запрете принятия в монастырь безбородых юношей и т. д. подчеркивалась необходимость постоянного пребывания Синайского архиепископа в монастыре с допущением отлучек из обители только по неотложным делам. Любивший заниматься садоводством и огородничеством Каллистрат III жил в зависимости от времени года либо в монастыре, либо в Эль-Торе. Им устроен большой сад у разрушенной церкви св. Апостолов и вне стен монастыря близ церкви св. Трифона.

Монастырь св Екатерины. Сад монастыря
Наконец, во время своей поездки в Египет в ноябре 1869 г. граф Игнатьев посетил Каирское подворье Синайского монастыря, где встретился с архиепископом Каллистратом. 13 ноября /ст. ст./ был составлен текст новой дарственной грамоты, которую подписал лично архиепископ и все отцы Джуванийского собора. Затем грамота была послана с курьером на Синай, для подписания отцами собора монастыря св. Екатерины, что и было сделано 18 ноября /ст. ст./, уже после отъезда графа Игнатьева из Египта. Вот отрывок текста грамоты:
<…> Ныне же снова настоящим документом мы архиепископ Синайский Каллистрат и при нас находящееся святое собрание здешних и синайских отцов отшельников объявляем, подтверждаем и удостоверяем о поднесении Его Императорскому Величеству Синайской рукописи Ветхого и Нового завета, которая, вследствие сего переходит в полное обладание и считается бесспорною, несомненною собственностью Его Императорского Величества… ДОКУМЕНТ

Дарственная грамота на Синайскую Библию, подписанная архиепископом и членами Собора отцов Синайского монастыря 13 и 18 ноября 1869 г.
Дарственная грамота, снабженная всеми подписями и печатями, была наконец получена Игнатьевым 14 декабря /ст. ст./. Он немедленно пересылает ее в Петербург В.И. Вестманну с отношением от 16/28 декабря 1869 г.:
5 января /ст. ст./ 1870 г. генеральный консул России в Египте И.М. Лекс передал архиепископу Каллистрату и представителям Синайского монастыря ордена и деньги, в чем получил от них расписки.
В 1870 г. синайские отцы упразднили собор старцев в Джувании, что было связано с длительным отсутствием в монастыре предшественников Каллистрата. Однако эта мера была крайностью - Джуванийское подворье являлось центром экономической жизни и обеспечивало связь монастыря с египетскими и турецкими властями. В Джувании пребывало 3 представителя монастыря.
В 1870 г. византинист, археолог и археограф, начальник Русской духовной миссии в Иерусалиме архимандрит Антонин (Капустин) пробыл в монастыре несколько недель и составил описание синайских рукописей. Он описал 1310 рукописей - примерно половину из имевшихся тогда в библиотеке. Один экземпляр каталога Капустин оставил в монастыре, а второй подарил Императорскому православному палестинскому обществу
В июне 1870 г. архиепископ Каллистрат и братия снова обратились за помощью к Н.П. Игнатьеву. При его посредничестве в течение нескольких месяцев вырабатываются условия окончательного соглашения с архиепископом Кириллом, которое заключается в российском посольстве в Константинополе 18 марта 1871 г. В соответствии с этим соглашением, монастырь выплачивал Кириллу крупное единовременное пособие, а тот возвращал братии права на бессарабские имения и взятые им из монастыря в 1859-1866 гг. ценные вещи
В 1871 году синайским архимандритом Григорием была построена 3-ярусная колокольня, украшенная 9 колоколами, присланными из России. Так же была построена часовня мученика Трифона при монастырском саду.

Часовня мученика Трифона. Колокольня.
Дело, начатое архимандритом Капустиным, продолжил В. Н. Бенешевич. Он трижды побывал на Синае - в 1907, 1908 и 1911 гг. - и практически завершил каталогизацию греческих рукописей. Бенешевич также опубликовал первое археологическое описание монастыря. Проделав титанический труд, он составил и опубликовал обширный справочник «Лица, бывшие на Синае, и труды о Синае». Он обнаружил части трёх листов рукописи в составе других рукописных книг в библиотеке Синайского монастыря. Эти фрагменты были приобретены Российской империей и привезены в Санкт-Петербург.

Архимандрит Антонин (Капустин). Бенешевич В. Н.
ПРОДАЖА КОДЕКСА
Ныне Синайский кодекс находится в Британском музее в Лондоне. В 1933 г. Советский Союз продал его за сто тысяч фунтов стерлингов. Решение о продаже было принято последней инстанцией - голосованием на заседании Политбюро, а на одной из выписок значится и имя «главного» - Иосиф Сталин. Дело в том, что известное решение Политбюро 1933 года лишь вершина айсберга, тогда как вся его невидимая часть - не просто история, а подлинный детектив и трагедия. Когда обнаружились сведения о непосредственных участниках этой исторической сделки, стало известно, что все они были репрессированы, а следственные дела этих несчастных в архиве ФСБ свидетельствуют: одним из обвинений был тот факт, что они продешевили при продаже «знаменитой Синайской Библии». Нарком внешней торговли СССР А.П. Розенгольц был расстрелян 15 марта 1938 года.

Первоначальная цена кодекса была определена в £200 тыс. - советское правительство запросило ровно $1 млн по курсу того времени. Сговорились на половине, посредником была антикварная английская фирма Maggs Bros, существующая и по ныне. Переговоры проходили в Париже. Много это или мало? С одной стороны, огромная сумма: на нее можно было купить, например, 40 автомобилей Rolls-Royce. С другой - такие сокровища, как древнейшая рукопись Нового Завета, продаются раз в жизни.
Именно последнее обстоятельство стало определяющим, потому что нашелся в Англии человек, который сделал покупку кодекса главным делом своей жизни. Это член попечительского совета Британского музея, директор Британского музея в 1909-1930 годах, выдающийся специалист по библейским рукописям сэр Фредерик Кенион. Именно ему Великобритания обязана приобретением драгоценной рукописи, именно его встречи и разговоры с премьер-министром Макдональдом, с главой англиканской церкви архиепископом Кентерберийским Космо Гордоном Лэнгом, с влиятельными членами английского парламента привели к тому, что казначейство его величества короля Георга V согласилось заплатить искомую сумму за сокровище, принадлежавшее до 1917 году его двоюродному брату - императору Николаю II.
Однако то обстоятельство, что англичанам удалось купить рукопись вдвое дешевле первоначальной цены, оказывается не столько следствием умения англичан, хотя нельзя не оценить их таланта переговорщиков, сколько результатом полного провала советской дипломатии и разобщенности в действиях участников процесса.
Когда в 1970 году библиотека Британского музея получила самостоятельность, одним из главных сокровищ Британской библиотеки стал именно Синайский кодекс, он и сейчас выставлен в галерее драгоценностей в специальной витрине.
Учитывая выдающееся значение этого памятника для человечества, в 2005 году начал работу международный проект Codeх Sinaiticus, основанный Британской библиотекой и остальными держателями фрагментов манускрипта. В 2009 года все три хранителя Кодекса, а также монастырь Святой Екатерины договорились о совместном интернет-проекте. Он был осуществлен, и с лета 2009 года Синайский кодекс целиком доступен в Сети. http://www.codexsinaiticus.org/ru/
История с Синайским кодексом до сих пор омрачает отношения синаитов с Россией. Архиепископ Синайский Дамиан не раз говорил, что, мол, Россия обещала вернуть Синайский кодекс, но так и не вернула. В монастырском музее демонстрируется письмо Тишендорфа от 16/28 сентября 1859 г., в котором он со ссылкой на рекомендательное письмо посланника России в Константинополе А. Б. Лобанова-Ростовского архиепископу Синайскому от 10 сентября того же года за № 510 обещал, что после публикации кодекс будет возвращен. Об акте подношения его России в музее не упоминается.
P.S. В 1975 г., перестраивая после пожара 1971 г. здание (в декабре 2001 г. в этом здании был открыт музей монастыря), монахи обнаружили потайную комнату, а в ней - полторы тысячи манускриптов и старопечатных книг. Находка получила название «Новая коллекция». Разбирая ее, монахи нашли 12 пергаментных листов - недостающие страницы Синайского кодекса, а также несколько его фрагментов. Они до сих пор находятся в монастыре св Екатерины.

КОНСТАНТИН ФОН ТИШЕНДОРФ
(1815 - 1874 гг)
Немецкий богослов, с 1844 г. профессор Лейпцигского университета, с 1859 г. по кафедре библейской палеографии.
Константин Тишендорф, которому было суждено стать первооткрывателем Синайского кодекса, окончил университет в Лейпциге, где в 1834-1838 гг. он изучал богословие. При поддержке своего учителя, профессора Йохана Георга Бенедикта Винера, молодой ученый приступил к исследованию и критике новозаветного текста, поставив перед собой грандиозную задачу издания всех греческих унциальных рукописей Нового Завета, а также переработку прежних изданий. С этой целью Тишендорф изучает библейские рукописи в библиотеках Южной Германии, Швейцарии и Страсбурга и вскоре издает греческий Новый Завет ("Novum Testamentum graece") в Лейпциге (в 1841 г.), а затем трижды в Париже (в 1842 и 1849 гг.).
В 1840 г. Тишендорф защищает докторскую диссертацию в Лейпцигском университете. После этого он едет в Париж. За два года упорной работы ему удалось расшифровать Codex Ephraemi Rescriptus — греческий библейский манускрипт V в., являющийся палимпсестом. Это приносит Тишендорфу всеобщее признание. "Codex Ephraemi rescriptus" был издан в Лейпциге в 1843 и 1845 гг.
С 1840 по 1844 гг. в поисках древних библейских рукописей Тишендорф предпринял путешествие в Англию, Голландию, Швейцарию, Италию, Египет, на Синай и в Палестину. С Востока он привез ценное собрание греческих, сирийских, коптских, арабских и других рукописей, а также 43 пергаменных листа Синайского кодекса, которые и издал в Лейпциге в 1846 г. под названием "Codex Friderico Augustanus".
В 1853 г. состоялось второе путешествие Тишендорфа на Восток — и в этот раз он снова привез древние рукописи.
В 1858 г. собранная Тишендорфом во время первого и второго путешествий по Востоку коллекция греческих и восточных рукописей, а также редких палимпсестов, была приобретена Императорской Публичной библиотекой. Многие из рукописей своей коллекции Тишендорф издал в "Monumenta sacra inedita" в 1846 г.
В 1859 г. Тишендорф в третий раз отправляется на Восток. На этот раз путешествие состоялось при финансовой поддержке русского правительства. Ученый привез в Петербург 109 рукописей, которые были переданы Публичной библиотеке. Вывезенные Тишендорфом с Синая 346 листов Синайского кодекса под названием "Bibliorum Codex Sinaiticus Petropolitanus" были изданы в Петербурге осенью 1862 г. к 1000-летию русского государства. В 1869 г., после торжественной церемонии подношения роскошного издания и самого оригинала Синайского кодекса императору Александру II, Тишендорф получил потомственное русское дворянство.
Большая часть научных работ Тишендорфа посвящена тексту греческого Нового и Ветхого Заветов. Неутомимый ученый продолжал публиковать библейские тексты, сопровождая их научными комментариями. В 1855-1870 гг. увидели свет 6 томов "Monumenta sacra inedita, nova collection", в 1867 г. были изданы "Novum Testamentum Vaticanum" и "Appendix codicum celeberrimorum Sinaitici Vaticani Alexandrini", в 1872 г. — "Novum Testamentum triglottum". Однако "Bibliorum Codex Sinaiticus Petropolitanus" остается вершиной издательской деятельности Тишендорфа.

Петербургское издание (1862)
СИНАЙСКИЙ КОДЕКС
Синайский Кодекс - рукопись христианской Библии, написанная в середине IV столетия н.э., плюс первая дошедшая до наших дней полная версия Нового Завета.
Рукопись написана по-гречески. Новый Завет излагается на койне, т.е. древнем общегреческом языке (koine). Ветхий Завет представлен версией, известной как Септуагинта, т.е.текстом, бытовавшим в среде ранних греко-язычных христиан. В рукописи Синайского Кодекса содержания Ветхого и Нового Завета подверглись серьезной переработке, текст испещрен множеством пометок ранних переписчиков, редакторов и корректоров.
Использование папируса для кодексов - отличительная черта раннехристианской культуры. Синайский кодекс же, напротив, начертан на выделанной коже или пергаменте. Это знаменует важную переходную грань в истории книжного дела. С этого момента многие греческие и латинские тексты, исполненные в виде свитков, «выходят из моды», и нормой становится пергаментная книга.
В дошедшем до нас виде Синайский кодекс состоит из более 400 листов обработанной кожи размером 38 х 34,5см. На этих пергаментных листах записаны приблизительно половина Ветхого Завета, апокрифические тексты (Септуагинта) и полный Новый Завет, а также 2 раннехристианских теста, не входящих в современные Библии.
На протяжении своей истории - и особенно это касается современной истории - части Синайского Кодекса меняли названия. Так, 43 листа хранящиеся в Лейпцигской библиотеке, в 1846 г. были изданы как «Кодекс Фридриха-Августа» в честь саксонского короля Фридриха Августа I, покровителя немецкой библиистики в целом и издателя Синайского Кодекса Константина Тишендорфа. В частности, 347 листов, хранящиеся сегодня в Британской библиотеке, ранее именовались «Codex Sinaiticus Petropolitanus» по имени города Санкт-Петербурга, где эта часть рукописи находилась с 1859 по 1933 гг. Отдельные части (6 листов) хранятся в Российской национальной библиотеке в Санкт-Петербурге. 12 листов и 40 фрагментов все еще находятся в монастыре св. Екатерины - в июне 1975 г. они были обнаружены монахами у северной стены монастыря.
В марте 2005 г. четыре института подписали соглашение относительно консервации, оцифровки, транскрипции и публикации сохранившихся листов и фрагментов Синайского кодекса.
Источник: http://www.codexsinaiticus.org/ru/
ШКОЛА АБЕТИОН
Школа Абетион давала начальное, среднее гуманитарное (гимназия) и среднее техническое образование и содержалась на проценты с оставленного братьями Абетами капитала. Этой школой заведовала особая комиссия (эфория) при участии одного из представителей семьи Абет и 5 выборных членов от каирской греческой православной общины. Председателем комиссии являлся Синайский архиепископ, поскольку наследники Р. Абета дополнили его завещание этим условием. Многие деятели Синайской и Александрийской Церквей кон. XIX - нач. XX в. были выпускниками школы Абетион. Первоначально школа включала 4 подготовительных класса (прогимназия) и 3 класса средней школы; в ней обучались дети только из православных семей. Школьная программа соответствовала программе, действующей в Греческом королевстве. Основным языком был греческий, в качестве иностранных преподавались арабский и французский. С 1888 г. преподавался также русский язык, т. к. школа находилась под покровительством российских императоров, а русский дипломатический агент при египетском хедиве состоял ее почетным попечителем. В кон. XIX - нач. XX в. в школе ежегодно обучалось до 200 чел. В настояшее время школа Абетион состоит из 3 отделений: греческого, арабского и англо-арабского, в которых начальное и среднее образование получают до тысячи учащихся из Египта и Греции в соответствии с принятой в Греции образовательной программой.
СИНАЙ И РОССИЯ
Связи России с православной Синайской церковью установились, по-видимому, в тот же период, когда в монастыре Св. Екатерины появились первые русские паломники - в XI в. К концу XIV в. они уже носили устойчивый характер. Об этом говорит упоминавшаяся поездка епископа Марка в Москву за милостынею в 1376 г. А в 1390 г. палестинские старцы привезли в Москву с Синая «образ Пресвятыя Богородицы Неопалимой Купины, на самом том камне написанный, идеже вид Моисей пророк купину огнем горящу и несгораему». Икона была помещена в Благовещенском соборе.

Великий князь Московский Василий III.
Поначалу материальная помощь России Синайской обители носила лишь эпизодический характер, причем ее инициаторами были сами синаиты.
В 1518 г. в Москву приехал старец Климент, человек знатного происхождения - из рода Палеологов - и с ним другой старец - Лаврентий. «Лета 7027 сентября приехал к великому князю из Синайские горы от Данила от игумена старец Клементей, а привез к великому князю от Данила от игумена грамоту, а другую грамоту привез от короля-деспота Артскаго от великия княгини Софьина сестрича. И князь великий тому старцу Клементу велел быти в монастыре Михайлова чуда».
В послании, датированном 16 ноября 1517 г., содержалась жалоба на турок (они завоевали Египет в январе 1517 г.)."..Особенно ныне нищета конечная и нужда внезапная пришла от султана Селима - суровейшего сыроядца, который наложил на их обитель дани две тысячи золотых". За неимением таких денег их пришлось занять. Архиепископ просил помощи у русского царя. Царь Василий Иванович в ответ на эту просьбу послал с Климентом на Синай милостыню на 600 золотых - соболями, белками и лисицами, а также рыбьим зубом, и просил синайскую братию молиться о его здравии и чадородии.

В 1558 г. в столицу России приехали старцы Иосиф и Малахия с письмом от 20 октября 1557 г., подписанным не только архиепископом Синайским Макарием, но и патриархом Александрийским Иоакимом. «Яви нам, в нынешние времена, новаго кормителя и промыслителя о нас, добраго поборника, избранного и Богом наставляемого ктитора святой обители сей, каков был некогда боговенчанный и равноапостольный Константин, ибо он положил основание обители в начале, потом же Иустиниан, великий Царь, совершил ея стены, - обращались они к царю Ивану Васильевичу. - Ныне же все обветшало и к концу приходит,и боимся, чтобы сей преславный и великий дом Божий не опустел совершенно и не был поруган при нашествии нечестивых. В ответ на это письмо царь Иван Грозный отправил в 1558 г. в Египет и на Синай богатую милостыню. «Ныне же в дар Богови и на покой твоему святительству послали есмы к тебе со архидиаконом софейским Генадием да с своим купцом с рухляди на 1000 золотых угорских да шубу под бархатом на соболях, - писал Иван Грозный Александрийскому патриарху Иоакиму, - а прошения твоего ради Синайской горы архиепископу и всем инокам на строение монастырское послал есми рухляди на 1000 золотых, и ты бы отче сам и во всем своем архиерействе и в Синайской горе велел молить Бога и Пречистую его Матерь и всех святых о нашем здравии и о сохранении, и о моей царице Анастасии и о наших детях царевичах Иване и Федоре и о всем православном христианстве, якоже прежде воспомянуто есть».
В 1571 г. Иван Грозный посылал с купцом Семеном Борзуновым милостыню на Синай на помин души своей первой жены, Анастасии 100 рублей, и брата Георгия 50 рублей, а позже- и своего сына Ивана.
«Царь Государь и Великий Князь Иоанн Васильевич всея России послал из Москвы с милостынею по сыне своем Царевиче Иоанне Иоанновиче (скончавшемся в 1582 году), с Московскими купцами Трифоном Коробейниковым, Юрьем Греком, и с ними ездил Феодор крестной мастер, с которыми государь послал пять сот рублей денег в Синайскую гору на сооружение церкви Великомученицы Екатерины…» Неясно, однако, на что в действительности были потрачены эти деньги. Отдельной церкви Св. Екатерины в монастыре нет.

В 1586 г. Федор Иоаннович отправил в монастырь с синайским архимандритом Мелетием 850 рублей. При грамоте к архиепископу Евгению, в которой он просил поминать его отца, мать Анастасию, брата и молиться о его здравии и победе над врагами. В другой грамоте Феодор просит устроить две неугасаемые кандилы, одну - у Неопалимой Купины, другую - над мощами великомученицы Екатерины, на что особо посылает 54 рубля: «И те б кандила, пока место тех денег на масло станет, горели день и нощь непрестанно за наше здравие и нашей царицы и о чадородии нашем в наследие царствия нашего» (7094 г.). В это же время Феодором дана была на Синай проезжая грамота, по которой синайские старцы всегда могли без всяких препятствий приезжать в Москву за милостыней, срок для приезда и количество приезжих лиц в грамоте не было означено и предоставлялось, значит, усмотрению самих синаитов.
В 1589 г. на Руси было введено патриаршество, и по этому случаю в январе 1593 г. царь Федор Иоаннович отправил заздравную милостыню с Трифоном Коробейниковым и Михайлой Огарковым в Царьград, Александрию, Антиохию, Иерусалим и Синай - 5564 золотых венгерских и «восемь сороков соболей и разной другой рухляди». Но до Синая гонцы не добрались. 22 февраля 1594 г. они вручили в Иерусалиме синайскому архимандриту Мелетию 430 золотых.

Царь Борис Годунов.
В 1605 г. в Москву приехал с Синая архимандрит Иоасаф и привез рекомендательные грамоты от патриархов Александрийского Кирилла Лукариса (впоследствии патриарх Константинопольский), Иерусалимского Софрония, от волошского воеводы Иеремии Могилы, просительную от синайского архиепископа Лаврентия. Так же он привез подарок царю Борису Годунову-«позлащенную панагию, с драгоценными камнями и многими мощами: Евангелиста Луки, Марии Магдалины, Великомученика Георгия, Иоанна Златоустаго, мучеников Ферапонта, Прокопия и Вакха, и древо жезла Моисеева». Архиепископ Синайский Лаврентий писал царю: «мы впали в долг и в нужду великую от дани, которую на нас накинули, и заплатили четыре тысячи золотых, и те заняли у Жидов и Турок и положили сосуды монастырские в закладе у них. И о сем молим великое твое благоутробие, покажи богатую свою милость богомольцам твоим, и заплати тот долг, чтобы выкупить священные сосуды». Грамоты патриархов и воеводы подтверждали справедливость этих жалоб архиепископа на бедствия, постигшие Синайскую обитель, и просили царя помочь ей. Не ясно, однако, была ли удовлетворена эта просьба, скорее всего из-за событий Смутного времени синаиты вряд ли успели получить милостыню.

Царь Михаил Федорович (1613 - 1645 гг)
После Смуты связи России с православным Востоком возобновились. В 1623 г. в Москву прибыло синайское посольство, во главе с бывшим родосским митрополитом Иеремией, с просительной грамотой от братии Синайской горы и всего Собора Палестины и с рекомендательной грамотой от Иерусалимского патриарха Феофана. Последний писал государю: «Святые монастыри терпят великую нужду - и более всех других Синайская Богоявленная обитель, и не имеет где главы преклонить и к кому прибегнуть, чтобы милость обрести".
Однако его пребывание в России было омрачено скандалом: монахи - члены посольства, поссорившись с митрополитом, донесли русским властям, что он "был лишен митрополитства и ему запрещено служить, что после запрещения он был в Риме, служил с папою, целовал его в ногу и вообще отпал от Православия". На следствии митрополит вероотступничество отрицал, но сознался, что собирал милостыню для монастыря в Западной Европе и получал пожалования от папы и европейских королей. Показание митрополита Иеремии, что Синай получает милостыню от папы и латинских королей, приводит к заключению, что синайский архиепископ Лаврентий действительно обращался за покровительством к папе, в чем его прямо обвинял известный Александрийский патриарх конца XVI века Мелетий Пигас в письме к Константинопольскому патриарху Матфею: «Рукоположенный двумя синайский епископ, надевший теперь уже и корону как патриарх, отправлял послов к папе старого Рима и лобзал его, выторговал себе награду за свое отступничество по триста сребреников ежегодно».
Таким образом, лично для Иеремии донос кончился вполне благополучно, он ничего не потерял и спокойно уехал из Москвы, где ему «никакия неволи не было». "А в Рим к папе, и в аглицкую, и во французскую землю не ездить; а буде он в те неверныя государства поедет, и он будет проклят в сем веце и будущем».
Но это дело могло дурно отозваться на дальнейших сношениях не только с Синаем, но и на других просителях с Востока и даже повлиять на доверие русских к самому Иерусалимскому патриарху, рекомендовавшему Иеремию как своего сослужебника, мужа верного и любезного.
В следующий раз посланец с Синая, архимандрит Малахия, прибыл в Москву за милостыней лишь в 1627 г. Он преподнес царю Михаилу Федоровичу образ Богоматери и великомученицы Екатерины. Но милостыня оказалась скромной: сорок соболей и 40 рублей. Зато уже через два года в Царьграде архимандриту Якиму Синайскому были переданы еще 52 золотых.
При царе Михаиле Федоровиче сбор милостыни в пользу восточных патриархов и монастырей был впервые введен в систему. Страна была разорена, и раздавать милостыню многочисленным просителям без всякого контроля было невозможно. В жалованных грамотах стали обозначать сроки, в которые разрешался приезд в Москву, обычно - в шестой или седьмой год, но, как отмечал Н. Ф. Каптерев, «в исключительных случаях - в четвертый и даже в третий».
Синайская обитель была одним из таких «исключительных случаев». Согласно жалованной грамоте, выданной 16 июня 1630 г. архимандриту Исайе, посланцы с Синая могли приезжать за милостыней в Москву каждый четвертый год. Грамота также давала им право следовать из пограничного Путивля в столицу без задержки. Между тем гонцы от четырех восточных патриархов и большинства монастырей были вынуждены ждать в Путивле высочайшего разрешения следовать в Москву. В остальном, однако, синаиты получили те же права, что и представители других восточных патриархов и монастырей. Всем им на границе предоставляли бесплатно подводы до Москвы и обратно, сопровождение и питание на все время пребывания на территории России, освобождали от уплаты каких бы то ни было пошлин. Тем самым русские государи свидетельствовали своим находившимся под турецким господством единоверцам, что являются истинными защитниками Православия.
В следующий раз посланцы Синайской обители приехали в Москву лишь через шесть лет. Правда, в 1634 г. на Синай на помин души патриарха Филарета были посланы царем 35 золотых.
В 1636 г. архимандрит Паисий привез царю письмо от архиепископа Синайского Иоасафа, в котором он просит прислать «шапку властительскую». Она была у архиепископа со времен Юстиниана, но утрачена «от частых полонов Агарян и потому просили блаженной памяти у Царя Феодора; он обещал сделать, когда приедет братия с Синая; но судом Божиим его не стало…»
Просьба эта была выполнена. В 1642 г. царь Михаил Федорович отправил на Синай митру, украшенную драгоценными камнями. Она выставлена в «Сокровищнице» (музее) монастыря, открытом в декабре 2001 г. (стенд 30, № 18).

Царь Алексей Михайлович (1645 - 1676 г.г.)
Как видно из жалованной грамоты 1630 г., Синайская церковь получила преимущество перед другими восточными церквями на сбор пожертвований в России. Такое же положение сохранилось и при царе Алексее Михайловиче. Он пытался сдержать поток просителей с Востока и поначалу установил для всех единый срок приезда в Москву за милостыней - раз в десять лет. Но в царской жалованной грамоте, выданной Синайскому монастырю 7 сентября 1649 г., содержится разрешение на приезд в каждый шестой год.
Особое отношение России к монастырю Св. Екатерины имело несколько причин. Прежде всего, это важнейшее религиозное значение Синая. Во-вторых, хотя Синайская православная церковь и входила формально в Иерусалимский патриархат, благодаря своему автономному статусу почти не получала от него поддержки и особенно нуждалась в покровителе. И, наконец, определенно сыграла свою роль и популярность на Руси святой Екатерины.
Показателен следующий эпизод. 24 ноября 1658 г. царь Алексей Михайлович остановился в шатре на ночлег во время охоты в подмосковной Ермолинской роще. Ему явилась святая Екатерина и поведала, что Господь даровал ему дочь. Вернувшись на другой день в Москву, царь действительно обнаружил, что у него родилась дочь. Девочку назвали Екатериной, а на месте, где случилось видение, царь велел построить Свято-Екатерининскую пустынь, существующую и поныне (г. Видное).
В 1666 г. Синайский архиепископ Анания прибыл в Москву вместе с Александрийским и Антиохийским патриархами для участия в процессе над патриархом Никоном и Соборе РПЦ 1667 г.

Синайский кодекс Библии, т. н. Синайская книга (лат. Codex Sinaiticus) считается древнейшей унциальной пергаменной рукописью Христианской Библии.
Сайт Синайского кодекса The Codex Sinaiticus Website действует с 24 июля 2008 года.
|
Синайский кодекс
Картинка взята с сайта http://www.codex-sinaiticus.net |
|
|
|
Полный разворот
Картинка взята с сайта http://www.codex-sinaiticus.net |
|
|
Монастырь святой
Екатерины на Синае
Holy Monastery of St. Catherine at Mount Sinai Картинка взята с сайта монастыря |
|
Колокольня монастыря св. Екатерины
Колокола - дар российского императора. Картинка взята с сайта Википедии . |
Тёмная история кодекса
Синайский кодекс датируется серединой IV века нашей эры и является одним из двух древнейших греческих списков Библии (более ранние тексты сохранились на папирусах, но их мало и они разрознены; кодексы же отражают складывание канона). Второй список, известный как Ватиканский кодекс, хранится в папской библиотеке. Он менее полон, чем Синайский, но, по-видимому, написан чуть раньше Синайского. Для библеистики важно, что количество расхождений между двумя кодексами исчисляется тысячами (больше всего их в Евангелии от Иоанна); в основном, эти разночтения состоят в транскрипции имен. Из этого можно предположить, что оба кодекса были переписаны не в одной мастерской, и источники у них были разные.
Русский исследователь архимандрит Порфирий Успенский описывал страницу Синайского кодекса так: "Буквы в ней совершенно похожи на церковно-славянские . Постановка их прямая и сплошная. Над словами нет придыханий и ударений, а речения не отделяются никакими знаками правописания кроме точек. Весь священный текст писан в четыре и два столбца стихомерным образом и так слитно, как будто одно длинное речение тянется от точки до точки".
Оба кодекса - это первые известные книги большого формата : традиция свитков уже начала отходить в прошлое. Важно также то, что ветхозаветные и новозаветные тексты помещены под одну обложку : исследователи видят в этом стремление скорейшим образом кодифицировать Писания, импульс чему дал император Константин.
История происхождения Ватиканского кодекса темна: твердо установлено только то, что в 1475 и 1481 годах он уже хранился в папской библиотеке, но как, откуда и когда он попал туда, неясно. Приключения Синайского кодекса известны в весьма увлекательных подробностях.
Первые листы кодекса - примерно 120 штук - обнаружил немец Константин Тишендорф в 1844 году в древнем монастыре святой Екатерины на Синае.
|
Монастырь св. Екатерины.
Фото с сайта www.biblicalplaces.org |
Самое удивительное, что могло произойти с кодексом, случилось в 1975 году, когда рукопись изучали уже добрых сто лет: монахи монастыря святой Екатерины случайно нашли 12 целых, ранее никем не виденных страниц (все из Ветхого Завета) и еще ряд фрагментов.
Большой проект по переносу Синайского кодекса в интернет дает возможность неограниченному числу людей получить доступ к страницам, к которым обычно и близко подойти нельзя, так они хрупки. Кроме того, кодекс впервые за полтора века будет воссоединен, хоть и виртуально, и снабжен общим аппаратом комментариев. Для тех, кто занимается библеистикой, палеографией и сходными дисциплинами, это - бесценный подарок.
Цитируется по статье Юлии Штутиной "Заглавными буквами без пробелов "
Странное объявление 1862 года
В английской газете "Gardian" помещено странное объявление по поводу Синайского кодекса. Оно принадлежит известному Симонидесу, заподозренному палеографу и продавцу древних рукописей; он пишет, что открытый Тишендорфом кодекс принадлежит не к IV столетию, а к 1839 году по Р. Хр. и написан им самим! "К концу 1839 года, говорит он, мой дядя, игумен монастыря св. мученика Пантелеимона на Афоне, Венедикт, желал принести достойный дар императору русскому Николаю I за его пожертвования монастырю св. мученика. Так как он не имел предмета, который мог бы считаться приличным для этой цели, то обратился за советом к иеромонаху Прокопию и русскому монаху Павлу, и они решили, что лучше всего написать ветхий и новый завет, по подобию старых образцов, унциалом и на пергаменте. Эта копия, вместе с отрывками из семи "мужей апостольских"; Варнавы, Ермы, Климента Римского, Игнатия, Поликарпа, Папия и Дионисия Ареопагита, в великолепном переплете назначалась для поднесения государю, посредством дружеской руки.
Осматривая манускрипт, я нашел, что он кажется гораздо древнее, чем, сколько можно было бы ожидать. Посвящение императору Николаю, стоявшее в начале книги, было вырвано. За тем я начал свои филологические исследования, так как в библиотеке было много драгоценных манускриптов, которые мне хотелось просмотреть. Между прочим нашел я здесь пастырь Ермы, евангелие от Матфея и спорное письмо Аристея к Филоктету; все они написаны были на египетском папирусе из первого столетия. Обо всем этом сообщил я Константию и своему духовнику Каллистрату в Александрии.
Вот короткий и ясный отчет о кодексе Симонидеса, который профессором Тишендорфом, бывшим на Синае, взял, не знаю почему; потом отправлен в Петербург и выдан там под названием Синайского кодекса. Когда увидел я в первый раз, два года назад, Факсимиле Тишендорфа у г. Ньютона в Ливерпуле, то тотчас узнал свое произведение и сейчас же сообщил об этом г. Ньютону".
Константин Тишендорф
Окончил Лейпцигский университет, где специализировался по древним языкам и теологии. Ещё во время обучения задумал восстановить наиболее древний текст Нового Завета.
В 1859 году он привёз рукопись, известную ныне как Синайский кодекс, в Петербург. Она была издана осенью 1862 году к юбилею 1000-летия русского государства. Два издания Нового Завета последовали за ней в (1863 и 1864) годах. Поднесение кодекса императору Александру II состоялось в 1869 году. Тогда же Тишендорф получил потомственное русское дворянство. Помимо этого Тишендорф получил поздравления от многих европейских монархов и Римского Папы.
В целом Синайский Кодекс датируется IV веком, иногда точнее - серединой века. Этот вывод основан на изучении текста рукописи, т.е. на палеографическом анализе. Кроме Синайского кодекса, из этого времени до нас дошла лишь одна, почти полная рукопись христианской Библии - так называемый Ватиканский кодекс, хранящийся в Ватиканской библиотеке в Риме. Рукописи христианской Библии, которые можно с уверенностью датировать боле ранним, чем Синайский Кодекс, временем, сохранились только в виде очень небольших фрагментов.
Большинство новозаветных папирусов достаточно отрывочны, имеется всего лишь пятьдесят рукописей (из которых Синайский кодекс является единственным представителем унциалов), содержащих полный текст Нового Завета.
Некоторые ученые предполагали, что две древнейшие из дошедших до наших дней пергаменных списков Библии - кодексы - Ватиканский и Синайский - могли входить в число тех пятидесяти рукописей, что были заказаны Константином.
Указывалось, в частности, что непонятное выражение Евсевия "кодексы по три и по четыре" вполне согласуется с тем, что в этих двух рукописях текст написан на странице в три и в четыре колонки. Однако можно также найти некоторые признаки того, что Ватиканский кодекс происходит из Египта, и что редакция текста этих рукописей не идентична той, которой пользовался Евсевий. С достаточной уверенностью можно сказать лишь то, что Ватиканский и Синайский кодексы, несомненно, выглядят так же, как рукописи, заказанные Евсевию императором Константином.
История Синайского кодекса
Первое место в списке новозаветных рукописей по традиции занимает кодекс греческой Библии IV в., обнаруженный в середине XIX в. Константином Тишендорфом в монастыре св. Екатерины на горе Синай. С тех пор эту рукопись знают как Синайский кодекс. Когда-то он содержал полный библейский текст, написанный красивым унциалом (см. илл. I) и расположенный в четырех столбцах на каждой странице. Размер каждой страницы составляет 381 на 343 мм. Текст Ветхого Завета не сохранился полностью до наших дней - отдсльные его части утрачены навсегда, но, к счастью, новозаветный текст уцслсл полностью. В действитсльности Синайский кодекс является единственной полной греческой унциальной рукописью с текстом Нового Завета.
История обнаружения этого памятника поистине удивительна и заслуживает более подробного рассказа. В 1844 г., не достигнув и 30-летнего возраста, Тишендорф, приват-доцент Лейпцигского университета, отправился в длитсльное путешествие по Ближнему Востоку в поисках библейских рукописей. Во время посещения монастыря св. Екатерины на горе Синай он случайно увидсл несколько листов пергамена в корзине для мусора, предназначенного для растопки монастырской печи. Вниматсльно рассмотрев листы, Тишендорф опредслил, что они являются частью списка Септуагинты с текстом Ветхого Завета, написанного ранним греческим унциалом.
Ученый извлек из корзины не менее 43 таких же листов. Один из монахов мимоходом заметил, что две корзины с подобными листами уже отправлены в топку! Спустя некоторое время, когда Тишендор-фу показали другие части этого же кодекса (содержащие всего Исайю и 1 и 4 Маккаввейские книги), ученый предупредил монахов, что подобные документы представляют слишком большую ценность, чтобы их постигла участь сожжения в печи. 43 листа, которые Тишендорфу позволили взять с собой, включали Первую книгу Царств, книги пророков Иеремии, Неемии и Ездры. По возвращении в Европу ученый передал их в университетскую библиотеку Лейпцига, где они хранятся и по сей день. В 1846 г. он опубликовал текст кодекса, назвав его Фредерико-Августинским (в честь короля Саксонии, Фредерика Августа, монарха и покровитсля Тишендорфа).
В 1853 г. Тишендорф вторично посетил монастырь св. Екатерины в надежде приобрести остальные части кодекса. Однако восторги Тишендорфа по поводу обнаружения рукописи насторожили монахов, и он не смог узнать о рукописи ничего нового. В 1859 г. поиски вновь привсли его на Синай, на этот раз он пользовался покровитсльством российского царя Александра II. За день до своего отъезда он показал монастырскому эконому том Септуагинты, изданный им в Лейпциге. После этого настоятсль заметил, что у него также имеется список Септуагинты, и извлек из шкафа в своей кслье завернутую в красную ткань рукопись. Глазам изумленного ученого предстало сокровище, которое он жаждал увидеть так много лет.
Пытаясь скрыть свои чувства, Тишендорф как бы между прочим попросил разрешения взглянуть на рукопись еще раз в тот же вечер. Разрешение было получено, и, возвратись в свою комнату, Тишендорф всю ночь изучал рукопись, поскольку, как он пишет в дневнике (который ученый вел на латинском языке), qtuppe dormire nefas videbatur ("заснуть было бы в самом деле кощунственно")! Вскоре он обнаружил, что документ содержит гораздо больше, чем можно было бы ожидать, - он включал не только значитсльную часть Ветхого Завета, но и полный Новый Завет в прекрасном состоянии. Кроме библейских текстов кодекс содержал два произведения ранних христианских авторов II в., Послание Варнавы (до того времени оно было известно лишь в плохом латинском переводе) и большой отрывок из Пастыря Ермы, доссле известное лишь по названию.
На следующее утро Тишендорф попытался назначить цену за рукопись, но безуспешно. Тогда он попросил разрешения взять документ на время в Каир для изучения, но монах, в чьем ведении находилась алтарная тарслка для сбора пожертвований, отказал ученому, и ему пришлось уехать ни с чем.
Позднее, находясь в Каире, где у синайских монахов было подворье, Тишендорф настойчиво просил настоятсля монастыря св. Екатерины, который в тот момент, к счастью, оказался в Каире, послать за документом. Рукопись доставили из монастыря быстрые бедуины, и Тишендорф наконец получил возможность переписать ее, но при условии, что он не будет работать более, чем с одной тетрадью (восемь листов) за один раз. Два немца, книготорговец и аптекарь, которые оказались в ту пору в Каире, немного знали греческий язык и помогли Тишен-дорфу переписать рукопись. Ученый тщатсльно проверял переписанное. Через два месяца они переписали 110 тысяч строк текста.
Следующим этапом переговоров стало осуществление того, что можно образно назвать "церковной дипломатией". В то время место настоятсля у синайских монахов было свободно. Тишендорф предложил им преподнести какой-либо подарок русскому царю, чье влияние как защитника греческой церкви могло бы быть употреблено во благо в связи с избранием нового настоятсля. А какой подарок мог более соответствовать случаю, если не древняя рукопись! После продолжитсльных переговоров бесценный кодекс был доставлен к Тишендорфу для публикации в Лейпциге и поднесения царю от имени монахов. На Востоке принято преподносить ответный подарок (ср. Быт 23, где Ефрон "отдает" Аврааму поле для места погребения, а Авраам тем не менее платит за землю 400 сиклей серебра).
Русский царь, в свою очередь, подарил монастырю св. Екатерины серебряную раку, семь тысяч рублей на поддержание синайской библиотеки, две тысячи рублей каирским монахам, а также пожаловал несколько русских знаков отличия (почетных степеней) представитслям монастырской власти. В 1862 г., когда праздновалось тысячслетие основания Российского государства, появилось роскошное издание текста рукописи в четырех томах. Рукопись издали на казенные деньги и напечатали в Лейпциге особым шрифтом, который был отлит таким образом, чтобы до малейших деталей воспроизвести особенности каждой строки оригинала 12.
Окончательная публикация кодекса была осуществлена в XX в., когда издатсльство Оксфордского университета выпустило факсимильное издание по фотографиям, сдсланным профессором Кирсоппом Лейком (Kirsopp Lake) (Новый Завет, 19П; Ветхий Завет, 1922). После революции в России советское правитсльство, которому нужна была не Библия, а деньги, договорилось с доверенными лицами Британского музея о продаже кодекса за 100 тысяч фунтов стерлингов (немногим больше, чем 500 тысяч долларов). Британское правитсльство взяло на себя обязатсльство обеспечить половину требуемой суммы, тогда как другая половина собиралась по подписке, из пожертвований и вкладов заинтересованных в покупке американцев, а также частных лиц и отдсльных приходов по всей Британии. За несколько дней до Рождества рукопись была перевезена под охраной в Британский музей.
Тщатсльное палеографическое исследование рукописи проведено сотрудниками музея, X. Мил-ном (Н. J. M. Milne) и Т. Скейтом (Т. С. Skeat), а его результаты опубликованы в книге под названием "Scribes and Corrections of Codex Sinaiticus" ("Писцы и правщики Синайского кодекса"), London, 1938 13. О кодексе появлялись новые сведения. Например, применение новой методологии в изучении рукописей, а именно использование ультрафиолетовых ламп, позволили Милну и Скейту обнаружить, что по окончании Ин 21:24 писец начертил две декоративные линии (коронис) в нижней части столбца с текстом и сдслал запись о том, что текст Евангелия от Иоанна завершен. (Такие же декоративные линии и записи появляются в рукописи в конце каждой книги.) Спустя некоторое время тот же самый писец смыл запись с пергамена и добавил заключитсльный стих (ст. 25), вторично нарисовав коронис в соответствующем месте ниже первого (см. илл. ГУ).
Тип текста, представленный в Синайском кодексе, в цслом принадлежит александрийской группе, но также содержит опредсленный пласт разночтений из западной группы. Перед тем как навсегда унести кодекс из помещения для переписывания рукописей, несколько писцов продслали работу diorqwthV (корректора). Чтения, за вставку которых ответственны переписчики, в критическом аппарате обозначались как К а. Позднее (возможно, в VI или VII в.) группа корректоров, работая в Кесарии, внесла в тексты Нового и Ветхого Заветов большое количество исправлений. По этим чтениям, обозначенным буквами К са и K cb, можно судить о том, что текст пытались править по другому образцу. Согласно сведениям, приведенным в колофоне в конце книг Ездры и Эсфирь, этот образец считался "очень ранней рукописью, которую исправлял бл. мученик Памфилий" 14.
А этот красивый кодекс, который датируют приблизитсльно V в., состоит из текстов Ветхого Завета, за исключением нескольких испорченных мест, и большей части Нового Завета (всего Евангелия от Матфея, кроме 25:6, а также листы, на которых первоначально был записан текст Ин 6:50-8:52 и 2 Кор 4:13-12:6). В1627 г. этот кодекс был подарен Константинопольским патриархом Кириллом Лукарисом английскому королю Карлу I. В настоящее время Александрийский и Синайский кодексы занимают видное место в витрине отдсла рукописей Британского музея. Фоторепродуцированное издание кодекса осуществлено в 1879-1883 гг. по инициативе Британского музея. За осуществление проекта отвечал Э. Томпсон (Е. Maunde Thompson). Несколько лет спустя Ф. Кеньон (F. Кепуоп) выпустил сокращенное факсимильное издание Нового Завета (1909 г.) и отдельных частей Ветхого Завета.